| ГЛАВНАЯ |  | БИОГРАФИЯ |  | ТВОРЧЕСТВО |  | КРИТИКА |  | ПИСЬМА |  | РЕФЕРАТЫ |
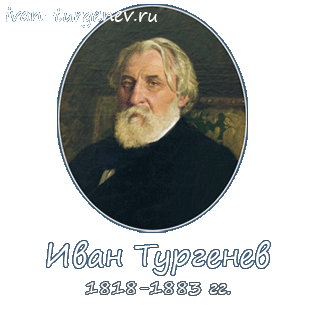
Часть 2 - Аполлон Григорьев - Реализм и идеализм в нашей литературеЕсли наш реализм содержания есть крайнее слово искусства, то во имя его мы совершенно вправе разоблачать все, что с ним несогласно. Где жизнь, там и поэзия. Если реализм - единственное законное выражение жизни в искусстве, то он есть вместе с тем и единственная поэзия, и нам, следовательно, нечего искать и ждать другой поэзии. Нам следует покончить дело со всем бывалым "поэтическим".. Вопрос этот решить отвлеченно, в сферах философского мышления, так же не трудно и вместе с тем, в настоящую нефилософскую эпоху, точно так же и бесполезно, как решать вопрос об отношении искусства и нравственности, которого недавно коснулся я на страницах "Светоча"13. Но для того, чтобы не говорю решить, а чтобы попытаться вести к его разрешению, представляется в настоящую минуту путь чисто практический. Сочинения двух замечательных наших писателей выходят теперь новыми и притом полными изданиями. Писатели эти, как нарочно,-- диаметрально противоположны по своим стремлениям и манере, как нарочно, равно любимы публикою и, как нарочно же, на одного из них нужно указать как на несомненного, может быть, даже последнего представителя поэтического элемента бывалых времен - элемента пушкинского и лермонтовского, а на другого - как на столь же несомненного представителя реализма... Поэтический элемент, и притом бывалый,-- элемент пушкинского и лермонтовского времени, сохранился в настоящую эпоху в одном только Тургеневе. Он им, этим элементом, преимущественно на всех нас и действует: в силу этого элемента нам милы в Тургеневе самые его недостатки. Этим я не хочу сказать, чтобы в Тургеневе этот элемент был единственный, так сказать, голый. Тургенев - везде, где это нужно,-- реалист формы в весьма удовлетворительной степени, и он-то преимущественно может служить наглядным доказательством того, насколько обязателен стал реализм формы для искусства в наше время. С другой стороны, с Писемским в реализме его воззрения и отношений к действительности - едва ли кто может поспорить из современных реалистов, хотя опять-таки этим я не хочу сказать, чтобы Писемский был вовсе чужд поэзии и чтобы в нем вовсе не было поэтического элемента. Но реализм, несомненно, преобладает в нем. Вы затруднитесь назвать реалистом Островского, несмотря на его яркую жизненность, затруднитесь потому, что из-за реализма Островского сквозят народные идеалы. Вы затруднитесь назвать вполне реалистом даже Толстого, несмотря на его беспощадный анализ движений человеческой души, на его бесстрашную простоту отношений к созерцанию жизни и самой смерти, потому что анализ видимо ведет и писателя и вас к результатам далеко не успокаивающим. Вы, наконец, и в резонерском реализме "Обыкновенной истории" и "Обломова" видите и странную непоследовательность, и преднамеренные задачи. Писемскому же - полнейший и спокойнейший реализм содержания вы ни на минуту не задумываетесь приписать во всем, что он ни давал нам, с самого первого и, может быть, самого глубокого из его произведений - "Тюфяка", до самого слабого из них по постройке, до его "Горькой судьбины", или до самого бессодержательного. как "Богатый жених"... Это - реалист несомненный, никуда и никогда не уклоняющийся с пути реализма... Можно сказать, что кто хочет понять вполне требования реализма содержания, дойти до геркулесовых столбов его, тот должен изучить Писемского... Этим несомненным реализмом объясняются и первоначальные отношения критики нашей к большому таланту, выступившему сразу с таким глубоким произведением, как "Тюфяк", с таким художественно законченным произведением, как "Брак по страсти". Отсталая критика в них ровно ничего не поняла и требовала от них какого-то движения характеров14 - забывая, что взяты художником такие характеры, которым или некуда двигаться, или которых движение задавлено преобладанием непосредственной, чисто звериной натуры. Куда прикажете двигаться Антону Ступицыну, Мари Ступицыной, Сергею Петровичу Хазарову, "милейшей" хозяйке - и другим лицам этого совершенно положительного мира, с такою ясностию и полнотою раскрытого "Браком по страсти"? Как двигаться и бороться Павлу Бешметеву, когда университетское развитие не могло в его очень неглупой и солидной натуре уничтожить его звериного хвоста или, по крайней мере, хоть несколько пообрезать его, когда ревность и бешенство выражаются в нем только пьянством и срамлением жены перед лакеями?.. Критика, кроме того, что не понимала лиц и отношений, изобретаемых Писемским, сердилась на него за беспощадно комическое отношение его ко всему, что ложно, хотя бы ложь и была вывескою возвышенных стремлений, ко всему, что сделано, сочинено в душе, хоть бы сделанное и сочиненное было очень блестяще. Она сердилась на него за m-me Мамилову, например,-- думая ошибочно, что в m-me Мамиловой осмеял он благородные порывы женского сердца и прогресс, сердилась на него за Бахтиарова15 и m-r Батманова16, этих прозаических Печориных-гусаров, совершенно живых и потому похожих на себя самих, а не на лермонтовского Печорина, сердилась, может быть, даже за Аполлоса Дилетаева и трагика Никона Семеныча в "Комике"17. Но сердилась критика совершенно напрасно. Писемский прямо и смело пошел с того пункта, на котором остановился и с которого своротил в страшную бездну Гоголь. Гоголь был менее всего реалист содержания, потому что был постоянно обладаем демоном юмора. Демон юмора завлек его в изображение "пошлости пошлого человека", в отрицательно-сатирическое отношение ко всему, что надевало маску "прекрасного" человека18. Бедный поэт-идеалист сокрушался о распавшемся "прекрасном человеке", сквозь видимый миру смех и незримые миру слезы. Слова своего он сам не в силах был вести дальше. При его жизни еще это слово раздалось скорбным и притом, в Достоевском, могущественным стоном сентиментального натурализма, стоном болезненным и напряженным, который, может быть, только теперь, в последнем произведении высокодаровитого автора "Двойника", в "Униженных и оскорбленных" переходит в разумное и глубоко симпатическое слово. При жизни тот же Гоголь мог увидать "воочью" другую сторону своего слова - чистый реализм Писемского. При появлении "Комика" - "Иногородный подписчик", единственный из тогдашних признанных критиков, который позволял себе понимать новые явления и иногда сочувствовать им, заметил весьма остроумно и верно, что в "Комике" из гоголевской "Женитьбы" сделана какая-то мерка для проверки искусства и жизни...19 Да не только в "Комике",-- в "Тюфяке" и "Браке по страсти" очень откровенно высказывался крайний реализм взгляда, к которому юмор подводил "изобразителя пошлости пошлого человека", как к бездне, и от которого он, по натуре и стремлениям чистый идеалист, поворотил в другую бездну. "Тюфяк" и "Брак по страсти" были протестом против литературы сороковых годов, литературы отрицательной в отношении к действительности, но нисколько не были сами по себе протестом за действительность, хотя и вели к таковому, как к логическому выводу. Анализируя спокойно-чувственно-звериные отношения Тюфяка к его жене и пустую натуру этой барыни, которая в повестях сороковых годов непременно явилась бы героинею,-- Писемский совершенно отождествился с воззрениями на вещи изображаемого им мира, без малейшей грусти и злости, как бы с полною уверенностью, что никакого другого мира и нет кругом нас, что всякие другие, несколько приподнятые воззрения существуют только в книгах. Самую лучшую личность своего романа - личность сестры Бешметева не снабдил он достаточною тонкостью для того, чтобы отговорить брата от брака с девушкой, нисколько его не любящею: нет, она, в сущности, такая же "кумушка", как все другие, как Перепетуя Петровна20, например,-- она только нравственней их,-- она нравственна до того, что может переваривать своего супруга, да и нравственность-то ее результат убеждения общего ей с "кумушками" убеждения, что, дескать, "стерпится-слюбится". С другой стороны,-- изображая губернского Печорина - Бахтиарова, Писемский как будто давал подозревать, что других Печориных у нас нет и быть не может, что вот что такое наши Печорины в губернской действительности, а не в виду гор Кавказа и не в байронических мечтах поэта... Между тем объективность художника и беспристрастие реалиста не позволили ему ни на волос солгать против правды, даже в пользу реального и нравственного воззрения, чего, к сожалению, не поняла тогда отсталая критика. Бахтиарову оставлены все его блестящие, мечущиеся в глаза и обаятельные для женщин стороны - не только внешние, но даже и внутренние - и Тюфяк, то есть Павел Бешметев, вовсе не противупоставлен ему как идеал. Личность Бешметева анализирована с полнейшею беспощадностью; но эта-то беспощадность и была чужда сознанию людей сороковых годов, к числу которых принадлежали более или менее наши критики. Человек умный и не бездарный, хоть и медведеватый, как Павел Бешметев, человек, которого коснулись, и даже не поверхностно, а основательно наука, искусство, современное развитие идей,-- живет с своим старым, наследственным звериным хвостом, лелеет и холит его, даже нет-нет да обмакнет его, этот драгоценный пушистый хвост, в грязную лужу и мазнет им ближнего по физиономии,-- человек этот способен в ревности на единственное мщенье, на разговор о жене за столом с лакеями при самой жене... Но именно эта ужасающая правда изображения, правда, которая долею относится к большинству из нас - так называемых образованных людей, если не ко всем, должна была рассердить всех тех из нас, которые еще мечтали о том, что мы совершенно созрели21. Притом еще, кроме правды изображения, в анализе проглядывало такое безучастное спокойствие, которое смахивало на полное равнодушие, которое чуть что не вело к выводу: "ну что ж? так есть - так и быть должно! Мы или Бешметевы, или Бахтиаровы - это в лучшем случае, а в худшем, мы - Масуровы"22. Наши женщины, которых литература сороковых годов рисовала нам внушающими глубокую симпатию протестантками,-- или такие протестантки, как жена Бешметева, или так тупо и противно нравственны, как сестра Бешметева. Для того и другого сорта их герои, предметы их привязанности, на первый раз непременно Бахтиаровы и совершенно по праву: Бахтиаровы и блестящи, и нравственно смелы; разница в том только, что женщины вроде жены Бешме-тева только начинают свое развитие Бахтиаровыми, а продолжают его кем угодно usque ad infinitum {прямо до бесконечности (лат.).}, а женщины вроде сестры Бешметева, обрезавшись на Бахтиаровых, тем и кончают, отдаваясь потом тому, что для красы, если они умны, называют они долгом, а в сущности, привычка или апатия... Стало быть, нет у нас ни лиц вроде Любови Александровны Круциферской, нет протестанток, да нет у нас также и Татьяны... Она - мечта великого поэта... Да уж полно, и велик ли поэт, если создания его только мечты,-- вопрос неминуемый в крайних последствиях реализма!.. Встаньте только добросовестно и честно на его точку зрения, то есть на точку зрения нашего быта с его казовых концов, дворянского и бюрократического... Ведь элементы пушкинской Татьяны, которая не была бы высоким поэтическим типом, если бы была явлением исключительным, а не народным,-- найдете вы только в народном быту, в подспудном быту, раскрываемом нам Островским - в его Марье Андревне, Любови Гордеевне; ведь и протестантский образ Круциферской, да еще несравненно глубже и живее схваченный, найдете вы только в этом же быту, у того же художника... Реализм с его нравственностью был бы прав, если бы в быту нашем, кроме казовых концов, не было ничего иного. Посмотрите на явления, до сих пор вокруг нас совершающиеся. Разве вопли мещанской нравственности против Елены Тургенева - не доказывают, как глубоко погрязли мы в нашу обычную тину и как мало способны мы, так называемые образованные, передовые люди - не говорю сочувствовать протесту страстных натур, но даже извинять его, как мало мы верим даже в возможность такого протеста?.. Да что говорить о воплях, поднимаемых литературою против литературных манифестаций протеста?.. Очень недавно литература замечательно бюрократически, чтоб не сказать мещански, заявила себя в отношении к фактам жизни... В деле, например, о побитии немки "героем" Козляиновым - за женщину, положим, встала литература, но к защитникам прав женщины она отнеслась с довольно постыдным смехом23. Другой факт еще интереснее и еще свежее. "Петербургские ведомости" напечатали недавно довольно бестактную статью какого-то корреспондента о литературном вечере в одном городе,-- вечере (или утре, не помню, право), на котором дама решилась прочесть "Египетские ночи" Пушкина. С замечательным остервенением, достойным Перепетуи Петровны,-- набросился "Век" на неосторожную даму!..24 Во имя общественной нравственности - чуть что не коснулись тут нравственности частной!.. И ведь с точки зрения "реализма" - разве не права была "Искра", издевавшаяся над г. Камбеком, и разве не прав "Век" в своем остервенении на неосторожную поклонницу поэзии? С точки зрения "реализма" всякий протест, погибающий в неравной, одинокой борьбе,-- донкихотство, иногда преступное, иногда - и это еще в лучшем случае - смешное... И ведь дело-то в том, что такое "реальное" воззрение, как заключающее в себе много правды, найдет всегда защитников и приверженцев в массе представителей казовых концов жизни... Реализм, по крайней мере - наш реализм, получил притом особенную силу, потому что сам явился первоначально как протест, и притом протест не донкихотский. Припомните первое появление "Обыкновенной истории". Сколько Петров Ивановичей ей обрадовались, Петров Ивановичей совсем забытых и затоптанных в грязь литературою сороковых годов... А это были еще даже не цветочки, тем менее ягодки, а первые отпрыски реализма как воззрения, отпрыски, притом тепличные, бюрократические. Всякому очевидно было, что и Петр Иваныч, и "идеалист", племянник его,-- лица выдуманные, сочиненные, не бытовые. Намерение, заданная наперед цель проглядывали явно в романе, несмотря на весь талант автора, выразившийся ярко в увлекательных и живых подробностях обстановки этих двух сухих фигур. Сам автор видимо являлся как человек далеко не непосредственный, а, напротив, сильно подорванный и надломленный развитием. В Писемском же, напротив, реализм приобрел художника-поэта эпически спокойного, художника, мимо натуры которого протест сороковых годов прошел почти бесследно. Вы скажете, может быть, что у Писемского есть произведения, по-видимому, связанные с литературою сороковых годов, по-видимому, даже запечатленные протестом,-- "Боярщина" в особенности. Но ведь это только по-видимому. Вглядитесь в лица "Боярщины" - и вы увидите, что протест в ней дело сочиненное, какая-то жертва, принесенная господствовавшему до конца сороковых годов направлению. "Боярщина" явным образом самое молодое из произведений Писемского, хотя она и явилась поздно на свет божий25. В "Боярщине" хорош только Задор-Мановский и хороши подробности; жертва же Задора не возбуждает никакого участия, во-первых, уже потому, что Писемский вообще не мастер рисовать женские типы, кроме типов комических, как Соломонида в "Ипохондрике", Перепетуя в "Тюфяке", "милейшая" хозяйка с ее тайными и явными милашками в "Браке по страсти"; а во-вторых и главным образом потому, что сам автор явным образом придает больше значения внешним неприятностям в положении, чем внутреннему процессу, в нем совершающемуся... Протестантская фигура Настиньки в "Тысяче душах" тоже мало удалась. Она хороша только до тех пор, пока у нее нет еще личности, пока она только страсть, когда она отдается Калиновичу, когда она молится в старом монастыре, провожая его, когда, бросивши все, приезжает к нему в порыве страсти... Затем начинается уже сочинение личности. Вообще Писемский - великий мастер в изображении одной половой стороны страстей, и в этом случае он, как и всегда, реалист до крайнейшей - последовательности, до той правды, которая некоторым критикам даже не нравится. Кто-то из московских критиков упрекал его, помнится, за сцену Калиновича с Амальхен26, не обративши, вероятно, внимания на то, что эти сцены со всей беспощадной правдою изображены писателем вовсе не вследствие польдекоковской любви к "игривым сюжетцам", а вследствие беспощадного анализа, что они притом совершенно оправданы глубокою психологическою мыслию и что самая мысль эта высказана прямо Писемским: мысль о том, что никогда человек не бывает так способен к измене, как тотчас же после разлуки с женщиной. Писемский в этой сцене является только последовательнейшим реалистом воззрения... И таков он во всей своей деятельности. Второе произведение его, с которым явился он перед публикою, было "Брак по страсти". Реализм основной мысли этого вполне законченного, закругленного произведения далеко глубже, нежели высказался он в эпиграфе: "Мелкие натуры только драпируются плащом Ромео"... Дело вовсе не в том, дело вовсе не в мелких натурах, не в том, что Сергей Петрович Хазаров и Мари Ступицына - пародируют чувство любви, и вовсе тоже не в том, что m-me Мамилова пародирует благородные порывы женского сердца... Вы из чтения романа выносите опять реальный вывод, что в казовых концах быта нет иной любви, что на m-me Мамилову похожи многие "прекрасные" женские души. Отсталой критике нельзя было не рассердиться на автора за "Брак по страсти". Этот роман - протест реализма против всей литературы сороковых годов, протест тем более сильный, что он был во всех пунктах беспристрастен. Повести сороковых годов постоянно стояли за жертв грубой действительности, постоянно были направлены или против дражайших родителей, или против мужей, постоянно были на стороне нарушителей домашнего спокойствия. Правда, что нарушители являлись Бельтовыми или, по-крайней мере, такими интересными и симпатическими личностями, как Роман Петрович в повести "Последний визит"; правда, что и жертвы рисуемы были как натуры исключительные, поэтические, как, например, женское лицо в повести "Без рассвета"27. Писемский смело поворотил медаль, но вовсе не так, чтобы стать за противоположную сторону до ложного опоэтизирования быта и до умиления перед деспотизмом его условий. Так же беспощадно, как к представителям требований любви и страсти, отнесся он к матери Мари Ступицыной, представительнице житейских и нравственных требований, внушающей очень мало симпатии своим раболепным пристрастием к "идолу". Автор даже не противоположил Хазарову в Рожнове героя. Хазаров, конечно, пуст и глуп, но ведь и в Рожнова-то мудрено тоже влюбиться не только девочке, как Машенька Ступицына, но даже и порядочной женщине. Нельзя же полюбить его за то только, что он очень добрый человек и что он чрезвычайно гуманен с своими "сеньорами". Самую гуманность эту нельзя ценить в нем очень дорого, потому что "синьоры" могут со временем сесть ему на шею, управлять его действиями и волей. Дальнейшее развитие этой гуманности найдется у самого Писемского, в лице Овцынина в "Батманове", тоже человека и умного и доброго, но на которого влияние "синьоров" до такой степени сильно, что он, не спросясь их, и не женится; и ведь эти "синьоры" сядут на шею не только ему, но, пожалуй, его жене и детям. Дело не мудрено в быту казовых концов,-- несущем в этом правдивую казнь за то, что в нем такое "синьорство" до наших времен существовало. Писемский и здесь,-- в лицах Рожнова и Овцынина, явился великим знатоком быта, хотя к сожалению, только намекнул на одну из его язв, вполне обличенную правдивым и простодушным рассказом "Семейной хроники", как о калиновом пруте дедушки Степана Багрова, так и о контрасте этого, о подчинении отца Софьи Николаевны своему калмыку до того наивного сознания, что он не может пожертвовать им даже и родной дочери. Заметить должно, что это явление принадлежит только казовым концам нашего быта. В народном быту, то есть в быту крестьянском и купеческом, несмотря на всю неразвитость первого и на все шероховатости широкого и самодурного развития второго, таких явлений нет, потому что им взяться неоткуда... Реализм воззрения Писемского, повторяю еще раз, есть реализм воззрения казовых концов народного быта, реализм дворянский и иногда бюрократический. Заслуга писателя именно в том и заключается, что он исчерпал этот реализм до дна, был беспощаден, но вместе с тем и вполне добросовестен в приложении воззрения к явлениям жизни. Он положительно отождествлялся в воззрении с изобретаемою им жизнию, анализировал ее с ее же точек зрения, хотя бы эти точки зрения были не выше уровня губернского правления. Раз только вдался он в постройку идеала, но идеал Калиновича вышел так же точно противоестествен, как идеалы второй части "Мертвых душ", о несостоятельности которых Писемский сам сказал правдивое и смелое слово...28 Реализм воззрения потому преимущественно так силен в Писемском, что он как писатель является в нем вполне искренним, что он у него нисколько не подорван рефлексией... С рефлексией, с верою в силу развития нельзя было создать "Тюфяка", нельзя создать и того кряжеватого типа, который в последнее время является в "Старческом грехе", удивительного типа, сразу же рисующегося перед вами как "медведь, на которого идут с рогатиной", человека, натуры которого не касается ничто: ни гимназическое, ни университетское образование, ни поэзия Пушкина, с которой он знакомится по поводу смерти поэта, и знакомится, однако, до горячего сочувствия. Реализм - в Писемском, искреннейшем и полнейшем представителе реализма, выразился именно - верою в натуру, в почву, и совершенным неверием в действительность развития и силу его и потому комическим или рассудочным отношением к протесту, то есть к возможности его на нашей действительной почве. Как сложился такого рода реализм воззрения, понять тоже не трудно. Писемский продолжал дело Гоголя - разоблачение всякой нравственной лжи, фальши, ходульности, дело общее ему с другими писателями нашей эпохи - с Островским и с Толстым по преимуществу. Но разоблачается всякая фальшь во имя какой-либо правды. Гоголь разоблачал фальшь все-таки во имя старого "прекрасного" человека, во имя идеала европейского... О народном нашем идеале или мериле он только мечтал и гадал: мечтания и гадания не удовлетворяли его как художника и привели его только к отчаянию. Отрывки второй части "Мертвых душ", с их сочиненными идеалами, с противнейшим Костанжогло, с не менее противной Улинькой и с самоуправным губернатором, доказали, что художник сжег рукопись недаром, не по болезненному капризу... Гоголь так и закончил, следовательно - одним словом отрицания, в наследство от него оставалось только орудие комизма... Искать новых идеалов, которые, собственно, и не ищутся, а носятся художником в душе, мог только художник с новым словом. Таким новым художником (совершенным или несовершенным, этот вопрос посторонний) явился Островский. Другие талантливые люди продолжали вести до геркулесовых столбов чистый, то есть отрицательный реализм, и можно сказать, что глубже нельзя было вести реализм, чем Толстой, проще и прямее, чем Писемский. Я назвал этот реализм отрицательным, потому что, в сущности, он другого значения и не имеет. Толстой неумолимо и мучительно преследует все фальшивое, деланное, сочиненное в мире человеческой души. Писемский спокойно, но так же неумолимо преследует все недействительное, сочиненное, "напущенное" в нашем быту и в нашей жизни. У того и другого равно нет никакого определенного идеала, перед которым известные явления казались бы фальшивыми, кроме идеала отрицательного: "действительности"... А что такое наша действительность? Неужели же она в самом деле заключается в воззрениях на жизнь Перепетуи Петровны или Соломониды Платоновны, тетушки ипохондрика. Наша действительность - вещь крайне неопределенная. Она дает, конечно, на каждом шагу и Перепетую Петровну, и Соломониду, и Масурова, и Рожнова, и Овцынина, но ведь она же дала и Пушкина. Наша "действительность" нечто совершенно несложившееся. Наш "реализм", то есть измерение всего действительностью, должен был запутаться непременно в безымянном, до отчаяния доходящем отрицании, как у Толстого, или, чтобы стоять на какой-либо твердой почве, хвататься за первые попавшиеся основы, хоть за воззрения на жизнь Перепетуи Петровны или Соломониды... |
| Иван Тургенев.ру © 2009, Использование материалов возможно только с установкой ссылки на сайт |