| ГЛАВНАЯ |  | БИОГРАФИЯ |  | ТВОРЧЕСТВО |  | КРИТИКА |  | ПИСЬМА |  | РЕФЕРАТЫ |
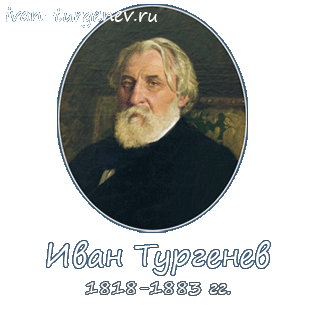
Возвращение - Тургенев - Юрий Владимирович ЛебедевУже в самом начале 70-х годов Тургенев стал ощущать первые признаки обнадеживающих перемен в отношении к нему со стороны русской молодежи, долгое время таившей обиду за Базарова. В феврале 1871 года "масса публики, кипящей молодостью", оказала ему в Петербурге такой восторженный прием, что он растерялся от неожиданности: "Что касается меня, - писал Тургенев Полине Виардо, - то должен сознаться, что никогда еще я не был предметом таких - простите мне это слово! - оваций ... У меня было такое ощущение, словно крупный грозовой дождь, быстрый и сильный, льется мне на голые плечи. Я читал отрывок из "Записок охотника" под названием "Бурмистр"; мне кажется, я прочел довольно хорошо, напряжение моих нерв ослабло за время всего этого шума, и я был спокоен, притом публика была так благожелательна". В обществе русских людей в Париже в 1874 году Тургенев с радостной улыбкой рассказывал об одном случившемся с ним "приключении": - По дороге из деревни в Москву, на одной маленькой станции, вышел я на платформу. Вдруг подходят ко мне двое молодых людей: по костюму и по манерам вроде мещан ли, мастеровых ли, "Позвольте узнать, - спрашивает один из них, - вы будете Иван Сергеевич Тургенев?" - "Я". - "Тот самый, что написал "Записки охотника"?" - "Тот самый..." Они оба сняли шапки и поклонились мне в пояс. "Кланяемся вам, - сказал все тот же, - в знак уважения и благодарности от лица русского народа". Другой только молча еще поклонился. Тут позвонили. Мне бы догадаться сесть с ними в третий класс, а я до того растерялся, что не нашелся даже, что им ответить. На следующих станциях я их искал, но они пропали. Так я и не знаю, кто они такие были... Что-то изменялось в русской жизни, чем-то новым повеяло на Тургенева из её таинственных глубин. И было досадно на самого себя, обреченного на прозябание во Франции: "Я готов допустить, что талант, отпущенный мне природой, не умалился; но мне нечего с ним делать... Голос остался - да петь нечего... А петь нечего - потому что я живу вне России; а не жить вне России я по обстоятельствам - всесильным - не могу. Следовательно: заключение выводите сами", - пишет Тургенев М. А. Милютиной. "Что же касается до литературы, тут я, голубчик мой, совсем швах; нельзя, решительно нельзя писать русские вещи, рисовать русскую жизнь, пребывая за границей", - жалуется он А. Ф. Писемскому. И в то же время у Тургенева появляется потребность как-то переменить привычный образ жизни. "И у нас весна, - пишет он П. В. Анненкову в 1873 году, - но и весна мне нипочем. Право, нужно бы, чтобы кто-нибудь меня встряхнул хорошенько - хоть Вы, например, - а то периной я стал, да еще не немецкой, а вот какие бывают у нас в купеческих домах, что от одного вида зевается. <...> Из Карлсбада на короткий срок сунусь в нашу великую Расею - быть может, прямо в Орловскую губернию. Хорошо бы вместе прокатиться". И вот жизнь, как бы в ответ на желания Тургенева, основательно встряхнула его. 23 июня 1876 года он писал из Спасского Г. Флоберу: "Я вообще сейчас не могу ничего читать, кроме газеты, которую здесь получаю и которая сообщает о событиях на Востоке и заставляет меня размышлять. Думаю, что это начало конца! Но до тех пор сколько это сулит отрубленных голов, изнасилованных и истерзанных женщин, девушек, детей! Полагаю также, что мы (я имею в виду русских) не сможем избежать войны". Это было действительно "начало конца" того славянского освобождения, о котором мечтал в 1848 году друг Тургенева М. А. Бакунин. Когда в 1875 году в Боснии я Герцеговине вспыхнуло восстание против турецкого порабощения, русское общество охватил патриотический подъём. По всей стране возникали славянские благотворительные комитеты. Петербургское общество организовало сбор приношений в пользу жертв восстания и обратилось к русскому народу с воззванием, разослав подписные листы по всей России. Для сборов средств в провинции были посланы особые уполномоченные, предпринято несколько изданий: сборник "Братская помощь", перевод брошюры английского публициста Гладстона "Болгарские ужасы и восточный вопрос", организована бесплатная раздача рисунков ("Балканская мученица") и портретов героев восстания. Деятельность Московского славянского комитета возглавил Иван Сергеевич Аксаков. В кружок патриотов-славянофилов, группировавшихся около Аксакова, входил генерал Михаил Григорьевич Черняев. Весною 1875 года, когда вспыхнуло восстание в Герцеговине, Черняев первый почувствовал в нем начало крупного международного кризиса, связанного с судьбами восточного славянства. Он вступил в личные сношения с сербским правительством и был приглашен в Белград для руководства военными действиями. Русское дипломатическое ведомство, узнав об этих секретных переговорах, приняло меры к тому, чтобы не дозволить выезд. Но Черняев, используя все свои связи с русскими патриотами в высокопоставленных кругах, приобрел заграничный паспорт и тайно отправился за границу. Переданный по телеграфу приказ задержать его на границе опоздал. В июне 1876 года Черняев был уже в Белграде. Известие о его назначении главнокомандующим сербской армией явилось сигналом к наплыву добровольцев в Сербию. Туда был отправлен санитарный отряд, 360 офицеров, 289 нижних чинов, 176 разночинцев и 120 донских казаков в полном вооружении с лошадьми. В числе добровольцев оказались известные врачи Склифософский и Боткин, писатели и художники - Глеб Успенский, Гаршин, Поленов, Константин Маковский и Верещагин. В апреле 1876 года началось восстание в Болгарии. В ответ последовали со стороны Турции жесточайшие репрессии, массовое истребление болгарского населения. Около 60 местечек в южной Болгарии было разорено и свыше 12 тысяч болгар обоего иола и различного возраста зверски замучено, зарезано или повешено. Особенно беспощадную резню и расправу устроили турки в местечке Батак в Родопских горах. Русская печать сообщала ужасающие подробности этих зверств. В России поднялась волна гнева и возмущения. Однако правительство цивилизованной Англии, союзницы Турции, не только не принимало мер к прекращению этого кровопролития, но молчаливо содействовало ему. 21 июня 1876 года в Орле учреждается Комитет для вспомоществования славянским семействам Болгарии, пострадавшим от зверств турецких войск после апрельского восстания. За один месяц орловцы собрали около 4 тысяч рублей и отослали их в Московский славянский комитет. Вероятно, в числе этих средств была лепта и от Ивана Сергеевича Тургенева. Но главную лепту в общеславянское дело он внес писательским словом. Глубоко потрясенный сообщениями русских газет о событиях на Балканах, возмущенный позицией "цивилизованной" Англии, летом 1876 года, на пути из Москвы в Петербург Тургенев написал стихотворение "КрСкет в Виндзоре". В Виндзорском бору английская королева Виктория играет в крокет, и вот ей чудится, что крокетные шары превращаются в "целые сотни голов, обрызганных кровию черной": То головы женщин, девиц и детей... На лицах - следы истязаний, И зверских обид, и звериных когтей - Весь ужас предсмертных страданий. И вот королевина младшая дочь - Прелестная дева - катает Одну из голов - и все далее, прочь - И к царским ногам подгоняет. Головка ребенка в пушистых кудрях, И ротик лепечет укоры... И вскрикнула тут королева - и страх Безумный застлал ее взоры. Вернулась домой и в раздумье стоит... Склонились тяжелые вежды... О ужас! кровавой струею залит Весь край королевской одежды! "Велю это смыть! Я хочу позабыть! На помощь, британские реки!" "Нет, ваше величество! Вам уж не смыть Той крови невинной вовеки!" Петербургская газета "Новое время", в редакции которой Тургенев оставил эти стихи, не решилась их напечатать. Но, как писал Тургенев, стихи "облетели всю Россию", "читались на вечерах у наследника", были сразу же переведены на немецкий, французский, английский языки. Молодежь России заучивала их наизусть. В ноябре 1876 года "Крокет в Виндзоре" появился в болгарской газете "Стара Планина", издававшейся в Бухаресте участником апрельского восстания С. С. Бобчевым. Даже равнодушный к литературным делам брата Николай Сергеевич послал "запрос" из Москвы, точно ли автор прославленных стихов - И. С. Тургенев, и получил ответ: "Милый брат, Я понимаю твои сомнения насчет моего авторства в деле "Крокета"; это совсем не по моей части и не в моем духе. И, однако, представь! Эту штуку я точно написал или, вернее, придумал ночью, во время бессонницы, сидя в вагоне Николаевской дороги - и под влиянием вычитанных из газет болгарских ужасов". Осенью в Париже Тургеневу жилось неспокойно: "От времени до времени меня ужасно подмывает к вам отправиться - в Россию... Там совершается нечто удивительное, вроде "крестовых походов". Война мне кажется совершенно неизбежной - и какие она размеры примет - ты един, господи, веси!" - писал он Полонскому. Когда сербские войска под командованием генерала Черняева и при широком участии русских добровольцев терпят поражение, Тургенев сообщает: "Сербская катастрофа меня очень огорчает. Будь мне только 35 лет, кажется, уехал бы туда". Жизнь во Франции становится невыносимой. Катастрофа в Сербии не только не вызывает сострадания во французском обществе, но выводит наружу "странный факт": "Нас, русских (и славян) везде ненавидят и никакого другого чувства не питают". Премьер-министр Англии Дизраэли тщательно готовит с помощью своих эмиссаров в Европе невиданный по своему размаху русофобский шабаш в буржуазной прессе. "Жить русскому за границей... невесело: невесело видеть, до какой степени все нас ненавидят, все, не исключая даже французов! Россия должна замкнуться в самое себя и не рассчитывать ни на какое внешнее сочувствие". "Европа нас ненавидит - вся Европа без исключения; мы одни - и должны остаться одни". Переживая русские неудачи, Тургенев, с другой стороны, как либерал и западник, не может принять той религиозно-славянофильской окраски, которую неизбежно принимает в России общественный подъем. В ноябре 1876 года он пишет: "Я, Вы знаете, не славянофил и никогда им не буду; сочувствовать глубоко движению, охватившему всю Россию, уже потому не в состоянии, что оно исключительно религиозное; но силу и стихийную громадность его признаю - и сам желаю войны, как единственного исхода из этого взволнованного мрака; да - видя на месте ненависть к нам всей Европы - нельзя наконец не углубиться в самого себя - и не признать за Россией права поступить как ей хочется. Преклоняюсь перед самоотвержением И. С. Аксакова - но не вижу причины самому воспламеняться. Болгарские безобразия оскорбили во мне гуманные чувства: они только и живут во мне - и коли этому нельзя помочь иначе как войною - ну, так война! Зарезанные болгарские жены и дети были бы не христианской веры и не нашей крови - моё негодование против турок не было бы нисколько меньше. Оставить это так, не обеспечить будущность этих несчастных людей было бы позорно - и, повторяю, едва ли возможно без войны". 12 апреля 1877 года Россия объявила Турции войну. В мае сестрой милосердия отправлялась в Болгарию Юлия Петровна Вревская, женщина, к которой Тургенев испытывал глубокую сердечную симпатию. Баронесса Ю. П. Вревская (урожденная Варпаховская) была на 23 года моложе Тургенева. Семнадцатилетней девушкой она вышла замуж за генерала И. А. Вревского, вскоре убитого на Кавказе в 1858 году. Тургенев познакомился с нею в 1873 году. Ю. П. Вревская приезжала к нему в Спасское и гостила там пять дней: "Милая Юлия Петровна, - писал ей Тургенев. - Когда Вы сегодня утром прощались со мною, я - так, по крайней мере, мне кажется - не довольно поблагодарил Вас за Ваше посещение. Оно оставило глубокий след в моей душе - и я чувствую, что в моей жизни с нынешнего дня одним существом больше, к которому я искренне привязался, дружбой которого я всегда буду дорожить, судьбами которого я всегда буду интересоваться". Тургенев встречался с Вревской в Карлсбаде и, очевидно, находился в душевном смятении: "Ужасно хотелось бы перед концом выкинуть какую-нибудь штуку... Не поможете ли?" - обращался он к ней. В письмах встречаются глухие упреки в нерешительности с её стороны: "Одна существует вещь, которая, по-видимому, представляет непреоборимые затруднения... но мне сдается, это происходит оттого, что Вы сами её не желаете". Наконец, Тургенев признается, что любил Вревскую, "но не настолько необузданно", чтобы просить её руки, да и "другие причины препятствовали". "Вы хотите уверить меня, что Вы не питали "никаких задних мыслей"; увы! я, к сожалению, слишком был в этом уверен. Вы пишете, что Ваш женский век прошел; когда мой мужской пройдет - и ждать мне весьма недолго - тогда, я не сомневаюсь, мы будем большие друзья - потому что ничего нас тревожить не будет. А теперь мне все еще пока становится тепло при мысли: ну, что если бы она меня прижала бы к своему сердцу не по-братски ". И вот теперь она уезжала на фронт сестрой милосердия. Узнав в мае 1877 года о её решении, Тургенев писал: "Сейчас получил Ваше письмо, милая сестра Юлия - и спешу отвечать Вам в надежде, что моё письмо Вас застанет еще в Петербурге. Грустно очень думать, что мы не скоро увидимся; тем грустнее, что я, вероятно, двумя-тремя днями не захвачу Вас там!" Подагра держала его в; Париже, но, к счастью, приступ прошел, и 22 мая Тургенев приехал в Петербург. Трудно сказать, что он чувствовал, на что рассчитывал. Но, во всяком случае, обстановка в семье Виардо в последние годы вновь стала тяготить его, да так, что даже появилось желание выйти из ложного положения, в котором он там находился. В марте 1877 года Тургенев писал Я. П. Полонскому: "Сижу я опять за своим столом; внизу моя бедная приятельница что-то поет совершенно разбитым голосом; а у меня на душе темнее темной ночи... Могила словно торопится проглотить меня: как миг какой, пролетает день, пустой, бесцельный, бесцветный. Смотришь - опять вались в постель. Ни права жить, ни охоты нет; делать больше нечего, нечего ожидать, нечего даже желать... Ты забываешь, что мне 59-й, а ей 56-й год; не только она не может петь - но при открытии того театра, который ты так красиво описываешь, ей, той певице, которая некогда создала Фидес в "Пророке", даже места не прислали: к чему? Ведь от неё уже давно ждать нечего... А ты говоришь о "лучах славы", о "чарах пения"... Душа моя, мы оба - два черепка давно разбитого сосуда. Я, по крайней мере, чувствую себя урыльником в отставке". К этому времени Тургенев уже выдал замуж всех дочерей Виардо, снабдив их приданым, во многом превышавшим выделенное своей собственной дочери... ...Тургенев встретился с Ю. П. Вревской перед ее отъездом в Яссы в Павловске, на даче у Я. П. Полонского, и был чрезвычайно рад этому свиданию. На сей раз проклятая "катковка" - так он в шутку называл свою болезнь - его не подвела. Потом он получал трогательные письма от Юлии Петровны из Болгарии. Именно Ю. П. Вревская сообщила Тургеневу в Париж о тяжелой, неизлечимой болезни Н. А. Некрасова, о его желании примирения и советовала написать Некрасову письмо. "Я бы сам охотно написал Некрасову, - отвечал Тургенев, - перед смертью все сглаживается - да и кто из нас прав - кто виноват? "Нет виноватых", - говорит Лир... да нет и правых. Но я боюсь произвести на негр тяжелое впечатление: не будет ли ему мое письмо казаться каким-то предсмертным вестником". В Петербурге летом 1877 года Тургенев узнал, что Некрасову уже ничего "казаться" не может; он понимает: дни его сочтены. Так состоялось последнее свидание: "Мы были когда-то короткими, близкими друзьями... Но настал недобрый миг - и мы расстались, как враги. Прошло много лет... И вот, заехав в город, где он жил, я узнал, что он безнадежно болен - и желает видеться со мною. Я отправился к нему, вошел в его комнату... Взоры наши встретились. Я едва узнал его. Боже! что с ним сделал недуг! Желтый, высохший, с лысиной во всю голову, с узкой седой бородой, он сидел в одной, нарочно изрезанной рубахе... Он не мог сносить давление самого легкого платья. Порывисто протянул он мне страшно худую, словно обглоданную руку, усиленно прошептал несколько невнятных слов - привет ли то был, упрек ли, кто знает? Изможденная грудь заколыхалась - и на съёженные зрачки загоревшихся глаз скатились две скупые, страдальческие слезинки. Сердце во мне упало... Я сел на стул возле него - и, опустив невольно взоры перед тем ужасом и безобразием, также протянул руку... ...Да... Смерть нас примирила". "С немалым огорчением узнал я о смерти Некрасова, - писал Тургенев 1 января 1878 года А. В. Топорову из Парижа, - надо было её ожидать - и даже удивительно, как он мог так долго бороться. Никогда не выйдет у меня из памяти его лицо, каким я его видел нынешней весною". Уходили, один за другим уходили люди, связанные с его прошедшей жизнью, и вместе с ними умирала большая часть его прошедшего, его молодости, его силы... "Вот и князь Черкасский отправился в ту сторону, иде же несть ни болезни, ни воздыхания, ни устраиваемой Болгарии! Предпоследний славянофил исчез (если только кн. Черкасский был славянофилом); последний, как известно, И. С. Аксаков". В январе 1878 года прекратились письма от Ю. П. Вревской... А в феврале Тургенев сообщил П. В. Анненкову: "К несчастью, слух о милой Вревской справедлив. Она получила тот мученический венец, к которому стремилась её душа... Её смерть меня глубоко огорчила. Это было прекрасное, неописанно доброе существо. У меня около 10 писем, написанных ею из Болгарии. Я вам когда-нибудь их покажу. Её жизнь - одна из самых печальных, какие я знаю". "На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный военный гошпиталь, в разоренной болгарской деревушке - с лишком две недели умирала она от тифа. Она была в беспамятстве - и ни один врач даже не взглянул на неё; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, поочередно поднимались с своих зараженных логовищ, чтобы поднести к её запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка. Она была молода, красива; высший свет её знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились... два-три человека тайно и глубоко любили её. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез. Нежное кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи... она не ведала другого счастия... не ведала - и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась - и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним..." К освободительной войне Тургенев относился крайне противоречиво. В письме к Полонскому он заявляя: "Да и наконец - с чего мы все в такой раж пришли? То, что у нас теперь совершается, тот же крестовый поход; вещь огромная, историческая - но все-таки все мои симпатии, как сына XIX века, направлены не туда - а к гораздо позднейшим явлениям - хоть бы к революции 89-го года. Восторгаться и бить себя в грудь нечего; разумная, действительная свобода ничего у нас от этого не выиграет, каков бы ни был исход войны". Либерал-западник, он был обеспокоен судьбою оппозиционного либерального движения, пытавшегося ограничить русское самодержавие конституционной формой правления. Подобно своим друзьям в России, он считал, что победоносная война может укрепить самодержавие и привести к полному краху всех либеральных надежд. Как писал Тургенев П. В. Анненкову: "Будет стоять крепенький морозец - и старая Россия будет по-прежнему кататься по установленному санному пути. А настанет оттепель - она поедет в телеге - и только толчков будет поболее. Другого зрелища наши глаза (Ваши и мои) не увидят - в этом мы можем быть уверены". Неизменное раздражение вызывает у него фигура генерала Черняева, поскольку вполне бескорыстный и честный сам по себе, Черняев терпел около себя людей сомнительных и предоставлял действовать от своего имени мелочным честолюбцам и карьеристам типа П. А. Монтеверде. Но как объяснить недоброжелательную иронию Тургенева по отношению к приятелю его князю Черкасскому, а также к брату писательницы О. А. Новиковой И. А. Кирееву - герою сербского национально-освободительного движения? Получив известие о первых неудачах русских войск в Болгарии, Тургенев пишет Я. П. Полонскому: "...Мне ужасно скверно на душе по милости наших неслыханных глупостей на Востоке - и мне хотелось бы забиться в какую-нибудь нору, чтобы не видеть никого и ничего не слышать! В таком случае лучше всего беречь всю свою дрянь у себя на сердце - и не разливать её ни перед кем". Но - увы - она разливается: "Новость о брате Новиковой превосходна - если только она справедлива. Славянофила на это хватит. Вот другой славянофил, кн. Черкасский, тоже превосходно отличается в Тырново. Как бы его турки не посадили на кол по взятии этого города, которое, кажется, висит уже на носу". С чем связана тургеневская ирония по отношению к Николаю Алексеевичу Кирееву, который, будучи камер-пажом, отправился добровольцем на Балканы, где, командуя отрядом сербско-болгарской милиции, погиб 6 июля 1876 года в сражении при Вратарнице? Этот человек организовал в 1876 году отправку добровольцев в Сербию, затем сам вступил под именем Хаджи-Гирея в сербскую армию, одержав над турками ряд побед. Среди славянского населения о нем ходили легенды. Тело его было так обезображено турками, что его не могли узнать в груде других трупов, оставшихся после сражения. Почему с досадой говорит Тургенев о деятельности В. А. Черкасского, возглавившего сразу же по вступлении русских войск на болгарскую землю гражданское управление? Главная квартира действующей армии находилась тогда в Тырново, где и развернулась с июля 1877 года широкая деятельность Черкасского по оказанию помощи разоряемому войной населению. Ирония над Н. А. Киреевым и В. А. Черкасским, по-видимому, вытекала из противоречивой натуры Тургенева, откликавшейся неприятием на любое бурное общественное движение и всеобщий патриотический подъем. Сказывались и западнические убеждения. В письме к американскому писателю и личному другу Г. Джеймсу Тургенев, опасаясь, что победа России над Турцией неизбежно приведет к войне с Англией, еще раз недвусмысленно высказался по поводу всех русских побед: "Эта война будет - она давно уже предрешена - восточный вопрос не может иначе разрешиться; и война эта будет долгой и тяжелой; я надеюсь, что она закончится изгнанием турок и освобождением славянских народностей, греков и других; но моя страна будет надолго разорена - и мои глаза не увидят даже тех внутренних реформ, которые нам обещаны. Вы легко поймете, что с подобными убеждениями я вижу будущее в черном цвете..." Но, как заметил один из самых проницательных тургеневских биографов, русский писатель Б. К. Зайцев, "сквозь все тургеневское западничество" просвечивает "его любовь к родной земле, к тетеревиной травке, красными хохолками цветущей в июле, к кустам, обрызганным росистыми каплями, откуда с треском, грохотом может подняться черныш - чудесный, краснобровый!" "В спорах со славянофилами часто Россию ругает - умом, "либеральной" своей головой, а темными недрами, откуда исходит художество, - весь в России..." Да и в западнических своих суждениях не выдает сказанного за "последние слова": "Главное - не желайте никогда и ни в чем ни высказать, ни выслушать последнего слова, как бы справедливо и искренно ни было: эти последние слова большей частью бывают началом новых недоразумений". И вот в письме к закоренелому западнику М. М. Стасюлевичу, рассказывая о страшных слухах в Париже о положении русских войск, Тургенев оговаривается: "Несомненно, что все это преувеличено; однако, если Вы знаете что-нибудь верное , напишите: мое патриотическое чувство очень беспокоится". Узнав о сдаче Карса, он пишет: "Я должен сказать, что давно не испытывал такой патриотической скорби; предчувствия самые мрачные меня терзают". Когда же русские войска одержали, наконец, победу в Малой Азии, Тургенев сообщает брату: "Как и все русские, я порадовался взятию Карса; это очень блестящее дело". Победоносный штурм Плевны, шипко-шейновское окружение турецкой армии и стремительное движение русских войск к столице Турции Стамбулу вызывают у Тургенева чувство гордости: "А в Турции совершаются чудеса! Здесь все рты разинули от последних наших побед, занятия Адрианополя и т. д. Дай бог заключить скорее почетный и прочный мир". Однако почетного мира России заключить не пришлось. Подписанный 19 февраля 1878 года Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией вызвал враждебную реакцию Англии, Германии и Австро-Венгрии, опасавшихся усиления влияния России на Ближнем Востоке и выхода её к Средиземному морю. Царское правительство приняло унизительные для победителей условия, продиктованные западными державами на Берлинском конгрессе. Блестящую речь против правительства, пошедшего на уступки, произнес в славянском комитете Иван Сергеевич Аксаков. Власти закрыли Московский славянский комитет, а И. С. Аксакова сослали на несколько месяцев в село Варнавино Юрьевецкого уезда Владимирской губернии. Однако вскоре ему разрешили въезд в столицы: авторитет этого человека был слишком велик. Годы освободительной борьбы балканских славян принесли Аксакову славу и всемирную известность. Не случайно же многие болгарские избирательные комитеты выдвинули его кандидатуру на болгарский престол! Тургенев, подобно И. С. Аксакову, отнесся к Берлинскому мирному договору 13 июня 1878 года отрицательно. Вмешательство западных держав вызывало у него, в отличие от космополитически настроенной части либералов, резкое неприятие. "Вы знаете, какой я слабый "chauvin" и славянофил, - писал он П. В. Анненкову, - но я сам начинаю желать, чтобы мы пошли к Константинополю - что ли!" Во Франции жилось неуютно: "Не только англичане и немцы, французы начинают под собою землю грызть... Только и слышишь, что "Варвары! Нашествие варваров!" "Самое курьезное (психологически курьезное) во всем этом деле - ненависть и зависть, которую ощущают теперь в отношении к нам все французы без исключения". "А моя утлая ладья выброшена на чужой берег - и догнивает там в мире и тишине, - пишет Тургенев Фету. - Я сейчас упомянул о "мире и тишине", и точно: если дела будут идти по-прежнему, Франция под эгидой тиерогамбеттовской республики превратится в самую идиллическую страну в целом свете. Посмотришь: везде волнения, бури, бедствия, убийства - а здесь, как говорится, и ветерок не шелохнет. Деньжищев пропасть, ни одного социалистического журнала, благодать и благостыня". Тянуло домой... Но и Россия тоже повернулась к Тургеневу. На закате дней одна за другой стали возвращаться к нему прежние литературные привязанности. Подали руки старые друзья. Первым оказался М. Е. Салтыков-Щедрин. Когда во втором номере "Отечественных записок" за 1870 год Тургенев прочел продолжение "Истории одного города", он "хохотал до чихоты" и сообщал Анненкову: "Он нет, нет, да и заденет меня; но это ничего не значит: он прелестен". А в ответ на присланную книгу с дарственной надписью Салтыкова-Щедрина Тургенев отвечал: "Любезнейший Михаил Евграфович... Душевно благодарю Вас за память обо мне и за великое удовольствие, которое доставила мне Ваша книга: прочел я ее немедленно. Не говоря уже о прочих ее достоинствах, эта книга в своем роде драгоценный исторический материал, который ни одним нашим будущим бытописателем обойденным быть не должен. Под своей резко сатирической, иногда фантастической формой, своим злобным юмором напоминающей лучшие страницы Свифта, "История одного города" представляет самое правдивое воспроизведение одной из коренных сторон российской физиономии". Между Тургеневым и Салтыковым возникла оживленная переписка; Тургенев с истинным наслаждением читает все, что выходит из-под пера Щедрина: "Вы отмежевали себе в нашей словесности целую область, - пишет он, - в которой Вы неоспоримый мастер и первый человек". В последние годы жизни Тургенев часто встречался с Салтыковым то в Петербурге, то в Париже. Однажды в Буживале Соллогуб решил прочесть Тургеневу и Салтыкову комедию, в которой он ругал молодое поколение на чем свет стоит. "Салтыков взбесился, обругал его, - сообщал Тургенев, - да чуть с ног не свалился от волнения. Я думал, что с ним удар сделается... Он напомнил мне Белинского". Читая "Благонамеренные речи", Тургенев специально выделил главу "Семейный суд". "Она так хороша, что невольно рождается мысль, отчего Салтыков вместо очерков не напишет крупного романа с группировкой характеров и событий, с руководящей мыслью и широким наполнением?" - обращался Тургенев с вопросом к приятелю. И Салтыков-Щедрин воспользовался тургеневским советом: он написал роман "Господа Головлевы". - Очень я люблю этого человека, - признавался Тургенев Анненкову, - как он ни вращает глазами и ни старается быть "букой". Он очень наивен и добр. И ругается от избытка этих двух качеств. Герман Лопатин вспоминал об одном характерном диалоге между Тургеневым и Щедриным в Париже: "Михаил Евграфович сердито кричал: - Ну, что ваши Зола и Флобер? Что они дали? - Они дали форму, - отвечал Тургенев. - Форму... форму... а дальше что? - допытывался Щедрин. - Помогли они людям разобраться в каком-нибудь трудном вопросе? Выяснили ли они нам что-нибудь? Осветили тьму, нас окружающую? Нет, нет и нет... Тогда Тургенев, беспомощно разводя руками, спросил Щедрина: - Но куда же нам-то, Михаил Евграфович, беллетристам, после этого деваться? - Помилуйте, Иван Сергеевич, я не о вас говорю, - возразил Щедрин, - вы в своих произведениях создали тип лишнего человека. А в нем ведь сама русская жизнь отразилась. Лишний человек - это наше больное место. Ведь он нас думать заставляет. Надо вам заметить, что Тургенев до старости не потерял способности краснеть, как юноша. И тут он вспыхнул весь". Через Салтыкова-Щедрина Тургенев познакомился с кругом молодых писателей народнической ориентации, высоко оценил талант Г. И. Успенского, посетил членов редакции народнического журнала "Русское богатство". Неизменно высоко оценивал Тургенев в беседах с молодежью талант и общественное значение Салтыкова-Щедрина: - Знаете, что мне иногда кажется: что на его плечах вся наша литература теперь лежит. Конечно, есть и кроме него хорошие, даровитые люди, но держит литературу он. Вот на ком непростительный грех, что не пишет, вот кто мог быть теперь чрезвычайно полезен - Лев Толстой; но что же вы с ним поделаете: молчит и молчит, да мало еще этого - в мистицизм ударился. Такого художника, такого первоклассного таланта у нас никогда еще не было и нет. Меня, например, считают художником, но куда же я гожусь сравнительно с ним? Ему в теперешней европейской литературе нет равного! ...В апреле 1878 года Тургенев получил от Л. Н. Толстого следующее письмо: "Иван Сергеевич! В последнее время, вспоминая о моих с вами отношениях, я, к удивлению своему и радости, почувствовал, что я к вам никакой вражды не имею. Дай бог, чтобы в вас было то же самое. По правде сказать, зная, как вы добры, я почти уверен, что ваше враждебное чувство ко мне прошло еще прежде моего. Если так, то, пожалуйста, подадимте друг другу руку, и, пожалуйста, совсем до конца простите мне все, чем я был виноват перед вами. Мне так естественно помнить о вас только одно хорошее, потому что этого хорошего было так много в отношении меня. Я помню, что вам я обязан своей литературной известностью, и помню, как вы любили и мое писанье и меня. Может быть, и вы найдете такие же воспоминания обо мне, потому что было время, когда я искренно любил вас. Искренно, если вы можете простить меня, предлагаю вам всю ту дружбу, на которую я способен. В наши годы есть одно только благо - любовные отношения с людьми. И я буду очень рад, если между нами они установятся". По свидетельству П. В. Анненкова, Тургенев плакал, когда читал это письмо... "Любезный Лев Николаевич, я только сегодня получил Ваше письмо, которое Вы отправили poste restante. Оно меня очень обрадовало и тронуло. С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне Вами руку. Вы совершенно правы, не предполагая во мне враждебных чувств к Вам: если они и были, то давным-давно исчезли - и осталось одно воспоминание о Вас, как о человеке, к которому я был искренно привязан - и о писателе, первые шаги которого мне удалось приветствовать раньше других, каждое новое произведение которого всегда возбуждало во мне живейший интерес. Душевно радуюсь прекращению возникших между нами недоразумений. Я надеюсь нынешним летом попасть с Орловскую губернию - и тогда мы, конечно, увидимся. А до тех пор желаю Вам всего хорошего - и еще раз дружески жму Вам руку. Иван Тургенев". В августе 1878 года Толстой встретил Тургенева в Туле, и они отправились в Ясную Поляну. Что передумал тогда Тургенев, слушая "ропот колес непрестанный", вспоминая, как двадцать лет тому назад, в 1858 году, он в последний раз был здесь, встречался и прощался с Марией Николаевной... Вспоминалась молодость, Покровское, Снежедь, "разлука с улыбкою странной", вспоминался давно ушедший из жизни, чуткий и скромный человек, друг и приятель Николай Николаевич Толстой. Сыну Льва Николаевича Сергею было пятнадцать лет, когда он впервые увидел Тургенева. Он вспоминал, что все ждали его с большим нетерпением и любопытством. "Я знал, что Тургенев большого роста, - рассказывал Сергей Львович впоследствии, - но он превзошел мои ожидания. Он показался мне великаном с добрыми глазами, с красноватым лицом, с густыми, хорошо причесанными, белыми, даже желтоватыми волосами и такой же бородой. Сравнительно с ним отец мне показался маленьким (хотя он был роста выше среднего)... В их отношениях чувствовалось, что Иван Сергеевич старший. Мне тогда казалось, что отец к нему относился сдержанно, любезно и слегка почтительно, а Тургенев к отцу, несмотря на свою экспансивность, немножко осторожно". Как обычно бывает после длительной разлуки, разговор сначала не клеился, прыгал с пятого на десятое. Давала себя знать и взаимная боязнь "возвратных ощущений". Беседовали о литературе. Тургенев декламировал "Медного всадника". Толстой немножко с ним спорил. К деятельности Петра I он относился отрицательно, осуждая его за деспотизм и произвол. Тургенев возражал, но от решительного спора тоже уклонялся. Из молодых писателей в России и за рубежом Тургенев горячо рекомендовал Льву Николаевичу Гаршина и Мопассана. Толстой согласно кивал головой, но при этом как-то недоверчиво улыбался... Но вот прошла первая неловкость - и, по обыкновению, Тургенев завладел разговором и общим вниманием. Бесподобный рассказчик, на этот раз Иван Сергеевич был в особенном ударе: он не мог скрыть радости, что в отношениях с Толстым восстановилась, наконец, дружеская связь. Один сюжет в его рассказах сменялся другим: он вспоминал, как, сидя на гауптвахте за статью о Гоголе, безуспешно заискивал у сторожа, здоровенного унтер-офицера; он изображал под хохот окружающих вареную курицу в супе, свою легавую собаку, делающую стойку. Он так описывал статую "Христос" Антокольского, что все зрительно представляли ее. Софья Андреевна поинтересовалась, как Тургенев чувствует себя на родине после долгих разлук с нею, не кажется ли ему все русское странным? Тургенев насторожился и задумался... Вопрос, по-видимому, был для него чуть-чуть болезненным: слишком часто и не без укора задавали ему его русские друзья. - Вы знаете, Софья Андреевна, - конечно, многое в России поражает. Любой деревне, даже моему Спасскому, далеко до самой захудалой французской деревушки. Крестьянская Русь со времен реформы отнюдь не процветает: разметанные крыши, худые, испитые лица, сплошные кабаки... Еду по дороге из Мценска в Спасское; ямщик попался хмурый, неразговорчивый. Ухаба на ухабе, рытвина на рытвине... Обгоняем телегу - впереди баба правит, сзади сидит, безвольно мотая головой, пьяный мужик. Все лицо у него в кровь разбито, опухло, под левым глазом огромный синяк. Вдруг молчаливый мой ямщик заерзал на облучке, заворчал одобрительно и, показывая кнутом на побитую мужицкую физиономию, торжественно произнес: - Руцкая работа! - Да, - продолжал Иван Сергеевич, - потом к этому привыкаешь, перестаешь замечать... Вы знаете, как я люблю родную природу, а деревенская скука действует на меня благотворно. Нигде так хорошо не работается, как в русской деревне. Обычно по приезде я провожу несколько дней безвыходно в саду; я ничего не знаю прелестнее наших орловских старых садов - и нигде на свете нет такого запаха, такой зелено-золотистой серости под чуть-чуть лепечущими липами в этих узких и длинных аллеях, заросших шелковистой травкой и земляникою. Чудо! Тургенев помолчал, и в его голубых глазах вновь мелькнула лукавая искорка: - В нашей деревне я с одним не могу примириться. Это - с рытвиной. Отчего во всей Европе нет рытвин?.. Я люблю Францию, но как русского человека меня раздражает во французах национальное самодовольство и мещанская расчетливость. Я не могу не обратить внимания на любопытный факт: насколько русские женщины и девушки образованнее француженок! Точно из темной комнаты войдешь в светлую, когда приедешь в русскую семью... В эти дни, проведенные в Ясной Поляне, Тургенев словно и забыл о своих болезнях, о своей проклятой подагре, так мучившей его и заставлявшей носить даже особые, мягкие, с широким носком сапоги. Он был весел и подвижен, ходил гулять с яснополянским обществом по окрестностям усадьбы, интересовался хозяйством, восхищался красотами природы. Сережа Толстой запомнил один живой эпизод. В то время около яснополянского дома кто-то устроил первобытные качели - длинную доску, лежащую своей серединой на перекладине. Проходя мимо, радостно возбужденные Толстой и Тургенев соблазнились нехитрой затеей и, став каждый на конец доски, стали при общем смехе подпрыгивать, подбрасывая друг друга... Вечером Тургенев читал свой новый рассказ "Собака". Он очень старался, не этот рассказ большого впечатления на слушателей не произвел. В другой вечер увлекались шахматами. Тургенев был сильный игрок, и Толстой ему проигрывал. С Сережей он выиграл партию, давая ему ладью вперед. Особенно искусно Тургенев действовал слонами. - Меня шахматисты называют "Рыцарем слона", - заметил он и вспомнил, как на одном международном шахматном турнире решающую партию ему довелось играть с поляком. Благодаря грубейшей ошибке противника вскоре он получил возможность сделать шах. - Публика с волнением ждала, сделаю ли я этот ход. Замешался национальный интерес: русский играл с поляком. Подумав, я все же сделал этот выигрышный ход, и поляк сдался, - сказал Иван Сергеевич, а Сережа Толстой заметил, что "патриотическая жилка" билась в этом "неисправимом западнике"... Вернувшись в Спасское, Тургенев написал Толстому доброе письмо: "Не могу не повторить Вам еще раз, какое приятное и хорошее впечатление оставило во мне мое посещение Ясной Поляны, и как я рад тому, что возникшие между нами недоразумения исчезли так бесследно, как будто их никогда и не было". На обратном пути из Спасского Тургенев снова завернул к Толстым. Конечно, не все в отношениях писателей оставалось гладким. Тургенев высоко ценил Толстого-художника, но иронически смотрел на его философские и религиозные искания, считая их чудачествами гениального человека. Зная, что это неприятно Льву Николаевичу, он невольно сдерживал себя, но иногда снисходительное невнимание к толстовской философии прорывалось непроизвольно в разговорах и раздражало Толстого. После осеннего посещения Тургеневым Ясной Поляны Толстой писал Фету: "Тургенев на обратном пути был у нас... Он все такой же, и мы знаем ту степень сближения, которая между нами возможна". 1879 год начался для Тургенева очередным горестным известием. "Сообщаю Вам, любезнейший Павел Васильевич, - писал Тургенев Анненкову, - постигшее меня горе: в прошлое воскресенье брат мой Николай Сергеевич скончался в тульской своей деревне. Мы с ним виделись редко, интересов общих не имели... а все-таки брат! Тут есть кровная, бессознательная связь, которая сильнее многих других". 14 февраля Тургенев был в Москве. Этот приезд писателя на родину по весьма невеселому поводу был смягчен явлением неожиданным и небывалым в его литературной судьбе. Казалось, суровая жизнь на закате дней решила вернуть писателю то, чего безжалостно лишала на протяжении долгих лет. Читающая Россия, которую Тургенев склонен был уже считать неисправимо неблагодарной, вдруг устремила на него ласковый и благодарный, бескорыстно-признательный взгляд. 15 февраля группа молодых профессоров Московского университета во главе с М. М. Ковалевским устроила в честь писателя торжественный обед. Собралось человек двадцать гостей, среди которых были известные ученые - А. Веселовский, Н. Бугаев, А. Чупров. Это была новая поросль российской науки, люди, мало знакомые Тургеневу. Хозяин дома М. М. Ковалевский в своей приветственной речи сказал о самом дорогом для писателя - о молодежи, о благотворном влиянии на нее тургеневских книг. Он предложил тост "за любящего и снисходительного наставника юности". Тургенев, едва дослушав это приветствие, не выдержал... и разрыдался. ..."А вчерашний день надолго останется мне в памяти - как нечто еще небывалое в моей литературной жизни", - сообщал он М. Ковалевскому в благодарственной записке. "А мне точно везет - как Вы предсказывали, - писал он в Петербург А. В. Топорову, - в четверг мне здешние молодые профессора давали обед с сочувственными "спичами" - а третьего дня в заседании любителей русской словесности студенты мне такой устроили небывалый прием, что я чуть не одурел - рукоплескания в течение пяти минут, речь, обращенная ко мне с хоров и пр. и пр. Общество меня произвело в почетные члены. Этот возврат ко мне молодого поколения очень меня порадовал, но и взволновал порядком". Тургенев вошел в большую физическую аудиторию Московского университета, битком набитую публикой. С его появлением аудитория заволновалась и обрушилась на бедную голову Ивана Сергеевича шквалом аплодисментов. Большинство студентов впервые увидело "живого" Тургенева, до тех пор они знали его только по портретам и не ожидали, что он такого громадного роста, что у него такие серебряные волосы и такая чудесная, почти детская улыбка. Он приветливо посмотрел кругом и в смущении опустил голову. Тургенев поместился за большим столом, рядом с председателем общества С. А. Юрьевым. Он внимательно слушал слова приветствия, но смотрел по-прежнему вниз, точно конфузился чего-то. Только когда с хоров раздался молодой, звонкий голос, Тургенев встрепенулся, оживился, поднял голову и все лицо его зарделось. Говорил студент-медик П. Викторов: "Вас приветствовал недавно кружок профессоров, - доносились до Тургенева слова юношеского делегата, - позвольте теперь приветствовать вас нам, учащейся русской молодежи, приветствовать вас, автора "Записок охотника", появление которых неразрывно связано с историей крестьянского освобождения..." Викторов говорил далее, что Иван Сергеевич никогда не стоял так близко к пониманию общественных задач и стремлений молодежи, как именно в эту эпоху своей литературной деятельности. А Тургенев, склонив голову набок, слушал незнакомого ему оратора, и печальная, чуть-чуть недоуменная улыбка не сходила с его доброго лица. Когда закончилась речь, Тургенев встал и, глядя наверх, сказал: - Я отношу ваши похвалы более к моим намерениям, нежели к исполнению их... Ему не дали договорить: поднялась такая буря аплодисментов и криков, какую ни предвидеть, ни подготовить заранее было нельзя. Тургенева проводили из университета с громкими рукоплесканиями. То сдержанно-критическое отношение к Ивану Сергеевичу, которое было обязательным после публикации "Нови", вдруг исчезло, пропало навсегда. Всплыло чувство преклонения перед громадным талантом с пророческим даром, перед великим певцом русской женщины. О нем уже не спорили, а говорили с неизменной почтительностью, не критиковали, а интересовались каждым его шагом. 4 марта чествования продолжились в зале Благородного собрания на вечере в пользу недостаточных студентов Московского университета. 8 марта он вернулся в Петербург я здесь тоже оказался в центре всеобщего внимания: новые овации, встречи с молодежью, приветственные адреса, лавровые венки. На вечере Литературного фонда 9 марта публика стоя приветствовала Тургенева. Он читал рассказ "Бурмистр". "После чтения в зале стоял содом. Молодежь жала Тургеневу руку. Он, в белых перчатках, торопливо жал протянутые десницы и, конфузливо кланяясь, торопливо пробирался к выходу", - вспоминал беллетрист П. П. Гнедич. 13 марта его чествовали петербургские профессора и литераторы. Юрист и адвокат В. Д. Спасович говорил о том, что Тургенев своими произведениями примирил "отцов" и "детей", объединил разные поколения под общим знаменем борьбы за русскую свободу. Идея единства прогрессивно мыслящих людей культурного слоя была и оставалась самой заветной в мировоззрении Тургенева. И вот пришел, наконец, тот долгожданный час, когда она близка к своему торжеству, когда, казалось, сбывалась давняя его мечта, выпестованная еще в юности. В ответной речи Тургенев сказал: "Такие часы не забываются до конца жизни; в них высшая награда для писателя, для всякого общественного деятеля. Но здесь, в Петербурге, в виду многих моих товарищей и друзей, тех людей "сороковых годов", о которых так много стали говорить в последнее время и сближение с которыми, столь заметное в рядах современной молодежи, составляет событие - событие знаменательное, - в виду всех вас, господа, мне хочется поделиться с вами следующим, поистине отрадным соображением. Что бы ни говорили о перерыве, будто бы совершившемся в постепенном развитии нашей общественной жизни, о расколе между поколениями, из которых младшее не помнит и не признает старшего, а старшее не понимает и тоже не признает младшего, - что бы там ни говорили большей частью непризнанные судьи, - есть, однако, область, в которой эти поколения, по крайней мере в большинстве, сходятся дружески; есть слева, есть мысли, которые им одинаково дороги; есть стремленья, есть надежды, которые им общи; есть, наконец, идеал не отдаленный и не туманный, а определенный, осуществимый и, может быть, близкий, в который они одинаково верят. Еще недавно, очень недавно нельзя было это сказать; но теперь это истина, это факт, видимый всякому непредубежденному глазу - и нынешний обед один из таких фактов. Мне не для чего указывать более настойчивым образом на этот идеал; он понятен вам и в литературе, и в науке, и в общественной жизни. Говорящий в эту минуту перед вами написал 16 лет тому назад роман "Отцы и дети". В то время он мог только указать на рознь, господствовавшую тогда между поколениями; тогда еще не было почвы, на которой они могли сойтись. Эта почва теперь существует - если еще не в действительности, то уже в возможности; она является ясною глазам мыслителя. Напрасно станут нам указывать на некоторые преступные увлечения. Явления эти глубоко прискорбны; но видеть в них выражение убеждений, присущих большинству молодежи, было бы несправедливостью, жестокой и столь же преступной... Правительственные силы, которые заправляют и должны заправлять судьбами нашего отечества, могут еще скорее и точнее, чем мы сами, оценить все значение и весь смысл настоящего, скажу прямо - исторического мгновения. От них, от этих сил зависит, чтобы все сыновья нашей великой семьи слились в одно деятельное, единодушное служение России - той России, какою ее создала история, создало то прошедшее, к которому должно правильно и мирно примкнуть будущее. А потому позвольте мне, человеку прошедшего, человеку 40-х годов, человеку старому, провозгласить тост за молодость, за будущее, за счастливое и здравое развитие ее судеб, и да совершатся наконец слова нашего великого поэта, да настанет возможность каждому из нас воскликнуть в глубине души: В надежде славы и добра Глядим вперед мы без боязни!" Либеральная часть молодежи и профессоров встретила окончание тургеневской речи бурными аплодисментами: им было ясно, на что намекал здесь Тургенев - на конституцию. Но праздничное настроение испортил Достоевский. Попросив слова, он потребовал от Тургенева: - Скажите же прямо, каков ваш идеал? Вопрос, поставленный в лоб и не подлежащий в России легальному обсуждению, вызвал в кругу друзей Тургенева возмущение. Достоевский и сам сразу же почувствовал его бестактность и стушевался. Но в либеральные полумеры он не верил, а намеки на конституцию вызывали у него раздражение. "Конституция, - замечал Достоевский в записной тетради. - Да вы будете представлять интересы нашего общества, но уж совсем не народа. Закрепостите вы его опять! Пушек на него будете выпрашивать! А печать-то - печать в Сибирь сошлете, чуть она не по вас! Не только сказать против вас, да и дыхнуть ей при вас нельзя будет". Достоевский не без основания боялся, что за буржуазным либерализмом в России в конечном счете стоят интересы тех финансистов, которые давно использовали в своих целях свободолюбивые порывы народов Западной Европы. Писатель, вслед за славянофилами, мечтал об идеальной монархии, во главе с царем, выражающим интересы народа. Конституция же, полагал он, приведет на практике к торжеству буржуазной олигархии, к еще более страшным формам деспотизма. Тургенев думал иначе. Он торжествовал. Его номер на четвертом этаже гостиницы "Европейская" превратился в какой-то проходной двор: тут бывали известнейшие люди, корифеи журналистики и литературы, студенты, курсистки, депутаты от самозваных кружков... 15 марта на литературном вечере в пользу нуждающихся слушательниц женских курсов чествование его превратилось в сплошной триумф. Тургенев был несказанно счастлив. Кончилось длительное недоразумение между ним и молодежью. Но неумеренно восторженные манифестации вызвали подозрение у правительства. Еще до появления Тургенева в Петербурге III отделение с тревогой отмечало, что "овации, которые подготовляются г. Тургеневу в Петербурге, могут принять большие размеры и значение, чем даже в Москве". Правительственные круги были встревожены тем, что в приветственных речах, обращенных к Тургеневу, говорилось о грядущем конституционном устройстве России, о "какой-то особой демократизации". В середине марта к Тургеневу в "Европейскую" явился флигель-адъютант императора "с деликатнейшим вопросом: его величество интересуются знать, когда Вы думаете, Иван Сергеевич, отбыть заграницу". Так ему дали понять, что торжественный прием не нравится правительству. Тургенев вынужден был отказаться от участия в литературных вечерах, ссылаясь на болезнь, но студенческой депутации Горного института и Петербургского университета намекнул, что "ему положительно запрещено являться среди молодежи и принимать ее овации". Почти одновременно реакционная пресса поспешила обвинить Тургенева в рабском "кувыркании" перед молодежью. "Иногородний обыватель" (тот самый Болеслав Маркович, которого Тургенев заклеймил в "Нови" как "клеврета" под именем Ladislas) опубликовал в мартовском номере "Московских ведомостей" злой фельетон на грани прямого доноса: "Другой, более цельный и независимый по убеждениям своим и характеру учитель молодежи не выразил бы туманного сочувствия "всем ее стремлениям", а определил бы ясно и точно те из этих стремлений, которым может и должен сочувствовать каждый зрелый и просвещенный сын страны своей, строго отделяя их от тех, которые могут вести лишь к позору и гибели", - писал публицист. В Петербурге Тургенев встретился тогда с находившимся на нелегальном положении революционером-народовольцем Германом Лопатиным. "Прежде чем войти, - рассказывал Лопатин, - я отправил ему свою визитную карточку, чтобы он узнал мою тогдашнюю фамилию. Кажется, Афанасием Григорьевичем Севастьяновым я был тогда. Вхожу. Увидал меня Тургенев и воскликнул: "Безумный вы человек! Можно ли так рисковать собой?.." Потом он рассказывал мне о своем пребывании в Москве, о речах, о молодежи и чествовании". А спустя некоторое время Тургенев узнал о том, что Лопатин замечен и его должны арестовать. При очередной встрече Тургенев стал упрашивать Лопатина уезжать немедленно. "И столько было тревоги за меня и боязни, что я его не послушаю, в голосе Ивана Сергеевича, - вспоминал Лопатин. - Я упорствовал. Мне захотелось проверить источник слухов. Иван Сергеевич назвал мне фамилию. Я знал названного господина за труса. Этот господин встретился с одной важной особой. "А знаете, ваш-то Лопатин..." - огорошила его особа. При словах "ваш Лопатин" на лице моего знакомого появилось, конечно, выражение горячего протеста. "Да нечего, нечего, - продолжала особа, - я ведь знаю, что вы там, за границей, с ним якшаетесь, ну, так недолго ему гулять, скоро его на веревочку посадят". Взвесив достоверность названного источника, я заявил: "Нет, Иван Сергеевич, я не поеду". Иван Сергеевич сокрушенно качал головой. Ему больно было сознавать, что он не сможет убедить меня. Я остался. А через два дня меня арестовали". Вернувшись в Париж, Тургенев писал Лаврову: "Несчастье, обрушившееся на Лопатина, было неизбежно; он сам как бы напросился на него. В самый день моего отъезда я умолял его уехать на юг - ибо об его присутствии в Петербурге полиция знала . Что теперь делать - сказать трудно". Однако Тургенев едет к графу Орлову, русскому послу в Париже, и пытается воздействовать через него на великого князя Константина Николаевича. "...Но и тут надо поступать с величайшей осторожностью, как бы не испортить дело, дав понять великому князю, что мне известны некоторые сношения его с революционерами", - пишет Тургенев Лаврову. Дело в том, что в процессе следствия Лопатину предъявили обвинения, угрожавшие ему смертной казнью. Возможно, что ходатайство Тургенева и возымело действие: Лопатин был отправлен в ссылку. В 1879 году Тургенев не только примирился с молодежью, но и встретил свою последнюю любовь, актрису Александрийского театра Марию Гавриловну Савину. Еще в начале года она обратилась к Тургеневу в Париж с просьбой разрешить в ее бенефис постановку тургеневской пьесы "Месяц в деревне". Писатель согласился, но неохотно: он был невысокого мнения о сценических достоинствах своих драм. После бенефиса он получил известие о необыкновенном успехе комедии, премьера которой состоялась 17 января, и послал Савиной телеграмму: "Тысяча благодарностей за трогательное внимание, поздравляю с успехом, ставшим возможным благодаря вашему таланту". В Петебурге состоялось знакомство, и Савина пригласила Тургенева на очередной спектакль. "С каким замиранием сердца я ждала вечера и как играла - описать не умею; это был один из счастливейших, если не самый счастливый спектакль в моей жизни. Я священнодействовала... Мне совершенно ясно представлялось, что Верочка и я - одно лицо... Что делалось в публике - невообразимо! Иван Сергеевич весь первый акт прятался в тени ложи, но во втором публика его увидела, и не успел занавес опуститься, как в театре со всех концов раздалось: "Автора!" Я, в экстазе, бросилась в комнату директорской ложи и, бесцеремонно схватив за рукав Ивана Сергеевича, потащила его на сцену ближайшим путем. Мне так хотелось показать его всем, а то сидевшие с правой стороны не могли его видеть. Иван Сергеевич очень решительно заявил, что, выйдя на сцену, он признает себя драматическим писателем, а это ему и "во сне не снилось", и потому он будет кланяться из ложи, что сейчас же и сделал. "Кланяться" ему пришлось целый вечер, так как публика неистовствовала. Я отчасти гордилась успехом пьесы, так как никому не пришло в голову поставить ее раньше меня... После третьего действия - знаменитая сцена Верочки с Натальей Петровной - Иван Сергеевич пришел ко мне в уборную, с широко открытыми глазами подошел ко мне, взял меня за обе руки, подвел к газовому рожку, пристально, как будто в первый раз видя меня, ртал рассматривать мое лицо и сказал: "Верочка... Неужели эту Верочку я написал?! Я даже не обращал на нее внимания, когда писал... Все дело в Наталье Петровне... Вы живая Верочка... Какой у вас большой талант!" На другой день вечером в зале Благородного собрания Савина и Тургенев читали сцену из "Провинциалки". "Поставили стол с двумя свечами, положили две книги, придвинули два стула и... надо было выходить, - вспоминала Савина. - Теперь, столько лет спустя, у меня сердце замирает при одном воспоминании, а что было тогда!.. Иван Сергеевич взял меня за руку, Вейнберг скомандовал: "Выходите!" - за кулисами зааплодировали, публика подхватила, - и я, оглушенная, дрожащая, вышла на сцену. Когда мы вышли, я, конечно, не кланялась на аплодисменты, а сама аплодировала автору. Долго раскланивался Иван Сергеевич, наконец, все затихло - и мы начали: "Надолго вы приехали в наши края, ваше сиятельство?" (Этой фразой начинается сцена.) Не успела я это произнести, как аплодисменты грянули вновь. Иван Сергеевич улыбнулся. Овации казались нескончаемыми - и я, в качестве "профессиональной", посоветовала ему встать, так как он совершенно растерянно смотрел на меня. Наконец публика утихла, и он отвечал. Тишина была в зале изумительная. Все распорядители, т. е. литераторы и даже Достоевский, участвовавший в этом вечере, пошли слушать в оркестр. Я совершенно оправилась от волнения, постепенно вошла в роль и, казалось, прочла хорошо. Нечего и говорить об овациях после окончания чтения. Ивана Сергеевича забросали лаврами. Вызывали без конца, но я, выйдя два раза на вызовы - и то по настоятельному требованию Ивана Сергеевича, - спряталась в кулисе за распорядителями и оттуда аплодировала вместе с ними". Вслед за Тургеневым и Савиной выступал Достоевский. "Когда вышел Достоевский на эстраду, - вспоминала Мария Гавриловна, - овация приняла бурный характер: кто-то кому-то хотел что-то доказать. Одна известная дама Ф. (А. П. Философова. - Ю. Л. ) подвела к эстраде свою молоденькую красавицу дочь, которая подала Федору Михайловичу огромный букет из роз, чем поставила его в чрезвычайно неловкое положение. Фигура Достоевского с букетом была комична - и он не мог не почувствовать этого, как и того, что букетом хотели сравнять овации. Вышло бестактно по отношению "гостя", для чествования которого все собрались, и Достоевского, которому вовсе не нужно было присутствие "соперника" для возбуждения восторга публики". Рассуждения Савиной несколько пристрастны. Это было не чествование Тургенева, а литературный вечер, в программе которого имя Тургенева стояло рядом с именем Достоевского. И поскольку Иван Сергеевич получил венок, букет его сопернику не представлял ничего вызывающего. Более того, публика на этом вечере попыталась примирить Тургенева с Достоевским: "Вызывали Тургенева, Достоевского, наконец, Тургенева и Достоевского вместе: они вышли на вызов и обменялись на эстраде дружеским рукопожатием". Однако это примирение на эстраде все-таки было неглубоким. Достоевский за кулисами сделал Савиной такой комплимент: "У вас каждое слово отточено как из слоновой кости. - И прибавил не без яда: - А вот старичок-то пришепетывает". Это было последнее выступление Тургенева в Петербурге. Он уезжал в Париж 21 марта - раньше, чем предполагал. Ему устроили дружные проводы, и в памяти всплыл 1856 год, дружеский обед литераторов, на котором Некрасов сидел рядом с Дружининым, Тургенев с Толстым и Панаевым. Неужели старое литературное и духовное братство возвращается вновь? Жандармский офицер вежливо сообщил Тургеневу на границе: "А мы уже пять дней ждем вас". 3 апреля 1879 года в Париж прилетела глубоко потрясшая Тургенева весть: 2 апреля народник-террорист А. К. Соловьев совершил неудавшееся покушение на жизнь Александра II. Начавшееся в стране либеральное движение вновь оказалось под угрозой. "Последнее безобразное известие меня сильно смутило, - в тревоге писал Тургенев Полонскому, - предвижу, как будут иные люди эксплуатировать это безумное покушение во вред той партии, которая, именно вследствие своих либеральных убеждений, больше всего дорожит жизнью государя, так как только от него и ждет спасительных реформ: всякая реформа у нас в России, не сходящая свыше, немыслима. Все это прекрасно... но в результате выйдет то, что именно эта партия и пострадает... Очень я этим взволнован и огорчен... вот две ночи, как не сплю: все думаю, думаю - и ни до чего додуматься не могу". Было над чем задумываться Тургеневу в эти бессонные ночи. Сложные превращения совершались тогда в народническом и либеральном движении. Первые народнические кружки Н. В. Чайковского и Ф. В. Волховского, начавшие "хождение в народ", придерживались тактики Лаврова. Революционеры, переодетые в мастеровых или под видом сельских учителей, врачей, писарей в волостных правлениях пытались закрепиться в деревне и вести систематическую пропаганду революционных идей в крестьянской среде. Однако правительственные репрессии вскоре показали, что подобная "оседлая" пропаганда в народе невозможна. К тому же движение принимало все более широкий, массовый характер, молодежью овладевало революционное нетерпение. Таким настроениям более соответствовала бакунинская идея летучей пропаганды, к которой молодежь и приступила. Массовое "хождение в народ" завершилось в 1874 году арестами нескольких тысяч человек и последовавшими затем процессами 193-х, 50-ти. После провала революционеры вновь решили сменить летучую пропаганду организацией прочных поселений в деревне, но действовать при этом крайне осмотрительно и осторожно. В 1876 году они создали новую подпольную организацию "Земля и воля". Основой ее считались поселения в деревне, а подвижный идеологический центр оставался в нескольких крупных городах и вел пропаганду среди учащейся молодежи и рабочих. Вскоре между деревенскими поселенцами и городским ядром землевольцев возникли разногласия. Первые все более и более убеждались в невозможности поднять народ на революцию в ближайшее время и частично переходили к культурной деятельности в деревне, отказываясь от революционных целей. Вторые, напротив, все более и более заражались революционным нетерпением и энтузиазмом, находясь под большим давлением молодых интеллигентских сил. В городской прослойке землевольческой организации становилась все более популярной и заманчивой ткачевская идея политического террора. Летом 1879 года на съезде партии в Воронеже "Земля и воля" распалась: "политики" организовали новую партию "Народная воля", провозгласив главной целью движения политический переворот и террористические формы борьбы с правительством, деревенские поселенцы отделились в свою партию под названием "Черный передел". К этому времени существенно оживилось и окрепло в России либеральное движение. Толчком к его пробуждению явилась русско-турецкая война, обнаружившая крупные недостатки в системе государственного управления. Возник интерес к политике, заговорили о реформах. Разочарование усилилось, когда правительство не воспользовалось результатами победы. Либералы сочли себя оскорбленными и тем обстоятельством, что царское правительство согласилось на установление в Болгарии конституционного образа правления, а у себя в стране все более и более ужесточало самодержавный режим. В среде либералов возникло набиравшее силу конституционное движение. Его поддерживала "третья сила" - разросшаяся к семидесятым годам в провинциальных земских учреждениях либерально-демократическая прослойка, состоявшая из сельских врачей, учителей, агрономов, волостных и уездных писарей. Земцы на тайных совещаниях обсуждали вопросы о свободе и независимости земского самоуправления, а также ограничения самодержавия конституционной формой правления. В воздухе носилась идея созыва всероссийского Земского собора. В этих условиях либералы проявляли терпимость и даже сочувствие к революционному движению. Когда в январе 1878 года раздался выстрел Веры Засулич в генерала Трепова и суд присяжных оправдал ее, либералы, приветствуя решение суда, организовали уличную демонстрацию. Съезды земцев утверждают и направляют правительству адреса, в которых требуют политических реформ. Легальная народническая публицистика "Отечественных записок", "Дела" и других журналов поддерживает либеральное движение и пытается объединить политические силы либералов с революционными народниками. Однако такого союза не происходит. Революционеры не хотят в основной массе подмены своих широких задач мелкими политическими уступками, а некоторые либералы, в свою очередь, добиваются политических свобод для "всенародной" борьбы с революционным движением. Однако стремление к единству всех прогрессивных сил нарастает. Немецкий дипломат X. Гогенлоэ записал в дневнике одну из своих бесед с Тургеневым 1 апреля 1879 года. Тургенев был поражен, что в России его чествовали как политического деятеля. Этот факт он объяснял поиском русскими либералами хоть какой-нибудь объединяющей силы для проявления либеральных воззрений, для их консолидации. Тургенев обвинил правительство в непонимании этого движения, в отождествлении либеральных кругов общества с нигилистами-заговорщиками. Он рассказывал, что существуют тайные общества с радикальными требованиями, что ему приходилось беседовать с такими радикалами: у них нет никакой программы, они только высказывают мысль о том, что старый, обветшавший дом должен быть подожжен со всех четырех сторон, а потом построен новый. Образованные круги - литераторы, ученые, чиновники, - убеждены, что Россия должна получить конституцию, которая включала бы представителей земств, чтобы контролировать финансы, внести порядок в управление. Движение охватило всех. Русский народ в брожении. Царю, по мнению Тургенева, было бы легко уступками привлечь на свою сторону народ и вызвать в нем по отношению к своей особе необычайный энтузиазм. И теперь для этого наступил самый благоприятный момент. Однако царь, которого всегда предостерегали, что уступки привели Людовика XVI к гильотине, не хочет об этом и думать. К тому же он сделался равнодушным, он окружен тесной кликой, склоняется к тому, чтобы одними и теми же мерами противодействовать как либеральному, так и радикальному движению. Это ожесточает умеренных. Вполне благомыслящие люди говорили ему, Тургеневу, что они сами смущены тем, что не могут в душе порицать террористические акты, которые публично осуждают. Тургенев упомянул различные факты, вызывающие раздражение. Так, девятьсот молодых людей, на которых только пали кой-какие подозрения, были брошены в одиночки. Шестьдесят человек из них в результате многолетнего заключения сошли с ума, многие заболели туберкулезом... И это были не только нигилистические заговорщики, большая часть их - либералы, которые не могли скрыть своих мечтаний о конституционном устройстве. "Неверно утверждают некоторые, - говорил Тургенев, - что в России нет людей, способных к руководству делами". И он назвал дельных провинциальных чиновников и адвокатов. Но если момент будет упущен, спасти Россию не удастся - наступит общий крах, потому что в перспективы революции Тургенев не верил. "Если бы я был царем Александром, - заключил Гогенлоэ свои записки, - я бы поручил Тургеневу составить кабинет". Тургенев чувствовал, что его приезд в Россию в 1879 году стал удобным поводом для демонстраций либералов; тут был расчет на полный успех: речь шла о писателе, действительно любимом всеми группами русской интеллигенции. "Не только либералы более взрослого поколения видели в нем наиболее честное и чистое воплощение своих стремлений, но и радикальная молодежь разглядела в Иване Сергеевиче подготовителя ее борьбы, воспитателя русского общества в тех гуманных идеях, которые, надлежащим образом понятые, должны были фатально привести к революционной оппозиции русскому императорскому самодурству", - писал Лавров. Конечно, никакого заискивания, никакого "кувыркания" перед молодежью у Тургенева не было. Он мог искренне сказать, что не "шел" сознательно к молодому поколению, но оно само "пришло к нему". В речах и адресах профессора, литераторы, адвокаты, студенты высказывались весьма смело о том, о чем в России обыкновенно лишь шепчутся. Ведь сам царь обратился к русской общественности с официальным призывом: "Правительство должно найти себе опору в самом обществе и потому считает ныне необходимым призвать к себе на помощь силы всех сословий русского народа для единодушного содействия ему в усилиях вырвать с корнем зло". В речах, обращенных к Тургеневу, литературу в России сравнивали с "преторским эдиктом", впервые внесшим начало гуманности в суровую римскую среду. Проводили сравнение России 70-х годов с закрепощенною Россией 1840-х. Говорили: "Состояние общества сходно: и тогда была под ногами закованная почва, только иначе закованная; и ждет общество, что рухнут наши неправды". В адресах писали: "Вас так же, как и нас, возмущают до глубины души печальные и странные явления нашей общественной жизни, вытекающие, как строго логическое последствие, из нашего общественного строя", и призывали его "в ряды той интеллигенции нашего общества, которая стремится к ниспровержению настоящего порядка". Даже высказывали: "Вы один в настоящее время сумеете объединить все направления и партии, сумеете оформить это движение, придать ему силу и прочность. Подымайте высоко ваше светлое знамя; на ват могучий и чистый голос откликнется вся Россия; вас поймут и отцы и дети". После русских оваций Тургенев летом 1879 года получил известие, что Оксфордский университет произвел его за "литературные заслуги" в доктора естественного права. "Честь великая, едва ли я не первый русский, ее заслуживший, - но как, почему!" Оказалось, что степень присуждалась ему за содействие "Записками охотника" освобождению крестьян. Тургенев первоначально опасался за исход официального торжества: между Россией и Англией после русско-турецкой войны отношения были крайне недружелюбными. Но все обошлось благополучно. Когда он явился в залу в докторской мантии и берете, его встретили рукоплесканиями. Одно только смущало Тургенева: "Ох! Как плохо идет ученая шапка к моей великорусской роже!" Но другого рода опасения были более основательны: "То-то, я воображаю, на меня прогневаются иные господа в любезном отечестве". Они прогневались. Кто-то из русских парижан привел к Тургеневу политического эмигранта Павловского, который написал автобиографическую повесть о впечатлениях преступника, подвергнутого одиночному заключению и впавшего в душевную болезнь. Тургенева попросили написать предисловие. С рукописью он познакомился, нашел ее довольно интересной с психологической точки зрения и предисловие написал. 12 ноября 1879 года повесть вышла во французском журнале "Le Temps"; и сразу же на это предисловие отозвались "Московские ведомости". Б. Маркевич писал, что нигилист, беглец из России, оказался под "сенью голубых крыл" г. Тургенева. Он намекал, что и сам рассказ подвергнулся тургеневской литературной правке, что это "творение шустрого ученика по заданному ему учителем шаблону". И все это - из жажды популярности перед молодежью: ради этого Тургенев готов плясать на каком угодно канате. Что за "постылый зуд популярничанья, так мало отвечающий достоинству его седых волос?" Теперь любой нигилист сочтет за благо "аттестацию", выданную Тургеневым. Ведь он признает первым их гнусное дело. "Поддерживая их былым авторитетом своего имени, он этим же самым приводит к соблазну и всех тех колеблющихся, нетвердо стоящих на ногах из этой русской молодежи..." Это был откровенный политический донос! "На меня в Питере - в самых высших кружках - страшно озлобились за мое предисловие, - писал Тургенев Анненкову, - в котором я, однако, объявил, что нисколько не разделяю образ мыслей гг. революционеров... Князь Орлов объявил мне, что я совсем испортил этим мое положение - хотя положение это никогда не было блестящим - в его смысле - несмотря на то, что я недели три тому назад был представлен наследнику и цесаревне, которые очень ласково со мной обошлись. Все это: "Тень, бегущая от дыма". И все же Тургенев твердо решил ехать в Россию, предварительно написав ответ "иногороднему обывателю" Б. Маркевиечу. Этот ответ был напечатан в журнале "Вестник Европы" в феврале 1880 года. "Если бы г. "Иногородний обыватель" ограничился одними посильными оскорблениями, - писал Тургенев, - я бы не обратил на них никакого внимания, зная, из какой "кучи" идет этот гром; но он позволяет себе заподозрить мои убеждения, мой образ мыслей, - и я не имею права отвечать на это одним презрением... В глазах нашей молодежи - так как о ней идет речь - в ее глазах, к какой бы партии она ни принадлежала, я всегда был и до сих пор остался "постепеновцем", либералом старого покроя в английском династическом смысле, человеком, ожидающим реформ только свыше , - принципиальным противником революций, не говоря уже о безобразиях последнего времени". Эта фраза о "безобразиях" несколько охладила революционную молодежь в ее восторженном отношении к Тургеневу. Да и события конца 1879 года развивались не в пользу тургеневских надежд на единодушие и объединение всех прогрессивных сил. 19 ноября 1879 года произошел взрыв императорского поезда, затем суд над Л. Мирским. Усилились меры полицейского давления на учащуюся молодежь. В декабре 1879 года Тургенев писал Л. Н. Толстому: "Точно, тяжелые и темные времена переживает теперь Россия; но именно теперь-то и совестно жить чужаком. Это чувство во мне все становится сильнее и сильнее - и я в первый раз еду на родину, не размышляя вовсе о том, когда я сюда вернусь - да и не желаю скоро вернуться". Все чаще и чаще ощущал он себя в семье Виардо одиноким, брошенным человеком. "Здесь я - пока - один; все мои переехали в Париж, куда и я перееду дней через пять, - писал Тургенев Анненкову в ноябре 1879 года. - Я желал этого уединения - чтобы приготовиться к более продолжительной разлуке. В мои годы смешно говорить о новом повороте в жизни (нашему брату, собственно, один поворот предстоит: в могилу) - но что перемена будет - это несомненно. Я еду в Россию, не зная нисколько, когда я оттуда вернусь. Причины, побуждающие меня к этому поступку, разнообразные: и личные и другие. Об этом мы поговорим при личном свидании. Не скажу, чтобы принятое мною решение было легко: оно даже очень тяжело... и я даже нахожусь в некоторой меланхолии. Но не стану больше распространяться о сем: "эти растроганности по поводу самого себя" - и не нужны, да и вредны... Хватит". Летом 1879 года его навестил в Париже петербургский знакомый А. Ф. Кони. Неприветливый швейцар отворил ему дверь на улице Дуэ, 50. Чей-то резкий голос, выделывавший вокальные упражнения, заполнял все пространство бельэтажа. Пройдя по лестнице на второй этаж, Кони встретил Тургенева, который ввел его в помещение из двух небольших комнат. Гостю бросилась в глаза старая, довольно потертая куртка хозяина. В комнатах царила "оброшенность"; густая пыль на маленьком закрытом рояле, оторванная от палки штора, висевшая поперек окна со слоем той же пыли на складках. Пришли на память стихи Некрасова: "Но тот, кто любящей рукой не охранен, не обеспечен..." - Да, да, - заторопился Тургенев, узнав, что его ждут к обеду русские друзья, - сейчас я оденусь! - Через минуту он вошел в темно-сером пальто из грубой материи, напоминавшей парусину. Продолжая разговаривать, он машинально искал пуговицу, которой давно уже не было. - Вы напрасно ищете пуговицу, - заметил Кони смеясь, - ее нет! - Ах! - воскликнул он, - и в самом деле! Ну, так мы застегнемся на другую. И он перевел руку на одну петлю ниже, но соответствующая ей пуговица болталась на ниточках, за которыми тянулась выступавшая наружу подкладка. Тургенев добродушно улыбнулся и, махнув рукой, просто запахнул пальто, продолжая разговаривать. За обедом в ресторане зашла речь о возможной женитьбе А. Ф. Кони. Тургенев оживился: - Да, да, женитесь, непременно женитесь! Вы себе представить не можете, как тяжела одинокая старость, когда ждешь ласки, как милостыни, и находишься в положении старого пса, которого не прогоняют только по привычке и из жалости к нему. Послушайте моего совета! Не обрекайте себя на такое безотрадное будущее! Все это было сказано горячо и взволнованно, на одном дыхании и с таким плохо затаенным страданием, что все невольно переглянулись. Тургенев это заметил, смутился и вдруг стал собираться уходить, по-видимому недовольный вырвавшимся у него признанием. Друзья пытались его удержать, но безуспешно. - Нет, нет, я и так засиделся. Мне надо домой. Дочь мадам Виардо больна и в постели. Может оказаться нужным, чтобы я съездил к доктору или сходил в аптеку... Возможно, в этих воспоминаниях волей-неволей сказалось ревнивое отношение русских друзей Тургенева к семейству Виардо, отлучившему писателя от родины? Однако вот письмо самого Тургенева к Флоберу о сборах в Кан: "Кан? почему Кан, - скажете вы, мой старый друг, - шутил Тургенев с горькой усмешкой. - На кой черт Кан? - А дело вот в чем. Дамы семейства Виардо должны провести две недели на берегу моря в местечке Люк или Сент-Обен; я отправлен вперед подыскать для них что-нибудь..." Едва ли уместно было такое поручение для уже пожилого человека, страдающего систематическими и мучительными приступами подагры, приковывавшими его к постели на долгие недели и месяцы... В феврале 1880 года он был в Петербурге, но родной столицы не узнал. Его оставили в "совершенно идиллическом покое", предоставив неизменной подагре-"катковке", которая по иронии судьбы всякий раз навещала его в последние приезды на родину. Только что состоялось новое неудавшееся покушение народников-террористов на Александра П. Столица застыла в каком-то оцепенении. "Старые приятели ко мне захаживают, новых лиц не вижу - и вместе с целым миром поражаюсь совершающимися событиями", - писал Тургенев Анненкову. "Старые приятели" намекнули Тургеневу, что в нынешней обстановке ему лучше избегать публичных выступлений, так как он находится на подозрении у правительства. Когда болезнь отступила, писатель, используя свои знакомства, добился разрешения на участие в литературных чтениях: "Мне разрешили читать публично - убедясь в моей голубиной невинности, - сообщал Тургенев Анненкову, - и я встречаю прежний прием, конечно, без венков и адресов, о чем я, разумеется, не печалюсь". Овации в его честь были, очевидно, запрещены. Особенно запомнилась Тургеневу встреча с сотрудниками журнала "Русское богатство", которая состоялась на квартире Г. И. Успенского. "Речь Тургенева лилась почти безостановочно, а мы слушали, попивая чай, - вспоминал об этой встрече С. П. Кривенко. - Впрочем, не все молчали: кто предлагал вопрос, кто вставлял замечание, а один вступил даже в продолжительный разговор. Это были две полные противоположности: один старик, другой - юноша, совсем почти мальчик; тот седой и высокий, этот черный, как жук, и маленький; тот художник, этот экономист, т. е. сама проза и цифра. Тургенев с большим вниманием вслушивался в то, что говорил этот юноша по фамилии Русанов. - Вы, Иван Сергеевич, давно живете во Франции и хорошо знаете и ее настоящее и прошлое, вы, конечно, знаете и Россию. Каково же ваше мнение о теперешнем положении вещей у нас, и не думаете ли вы, что у нас на носу революция? - Я не пророк в своем отечестве, - мягко возражал Тургенев, - и не могу претендовать на предсказание: "Будущее на лоне у богов", - говорил Гомер. Но мне кажется, что Россия далеко не так близка к революции, как Франция прошлого века. Обратите внимание на одно обстоятельство: в то время во Франции было могущественное оппозиционное течение, и все мыслящие люди, несмотря на различие мнений, соглашались в одном: старый дом должен быть заменен новым. А у нас? Есть реакционеры, есть либералы, есть революционеры... крайние прогрессисты, - поправился Тургенев и окинул молодых людей добродушным взглядом, как бы не желая обидеть их, - что между ними общего, что они все согласны уничтожить и что сохранить? А пока нет общего могучего течения, в котором бы сливались все отдельные оппозиционные ручьи, мне кажется, рановато говорить о революции... - Но именно те, кого вы, Иван Сергеевич, назвали "крайними прогрессистами", и являются той настоящей силой, о которой вы говорите, о которой мечтаете. А что такое либералы? Полное отсутствие энергии, трусость... Разговор принимал жесткий и неприятный для Тургенева характер. И, по воспоминаниям его участников, писатель незаметно перевел его в конкретный план, заворожил молодых людей поэзией устного рассказа: - Так ли надо вести дело, как оно ведется теперь, - не знаю. Но что хождение в народ не удалось, это, кажется, очевидно. Да и могла разве удаться пропаганда отвлеченностей социализма людям, вся жизнь которых состоит из перехода от одной конкретной, осязательной вещи к другой: от сохи к бороне, от бороны к цепу, а от цепа иной раз и к полштофу... особливо ежели дело о Покрове или о Рождестве. Если речь, которую вы ведете к мужику, не идет прямо навстречу его конкретным желаниям, он не станет вас слушать... Вон правительство несколько раз принималось внушать, чтобы он не думал того и того-то, а думал то-то и то-то. А мужик все понимал в том смысле, в каком ему хотелось понять... Да, вот, кстати, я расскажу вам по этому поводу один небезынтересный факт. Дело было так. На границе Орловской и Калужской губерний - невдалеке от меня - случился, не припомню точно когда, но вообще вскоре после отмены крепостного права, бунт. Помещик надул уставной грамотой крестьян: отрезал у них самый лучший участок, которым они пользовались крепостными. Те упрашивать барина, жаловаться к мировому посреднику. Последний решил не в их пользу. Мужички забунтовали, то есть, невзирая на отмежевание, отправились пахать под озими спорное поле. Власти переполошились и наделали такого шуму, что об этом дошла весть до государя, который случайно охотился в это время на лося поблизости, в дремучих калужских лесах. Время было горячее, волнения из-за "настоящей воли" вспыхивали повсюду, и царь решил явиться на место и самоличным увещанием подействовать на бунтовавших, а через них, надеясь на стоустую молву, и вообще на крестьян нашей полосы. Бунтовщиков с раннего утра собрали возле церковной паперти: государь известил начальство о скором прибытии. Целый день прошел в напрасных ожиданиях... Тут Тургенев внезапно переменил тон и с неподражаемой интонацией в неподражаемо народной форме повел рассказ от лица мужика-очевидца, который описал Тургеневу все царское посещение. - Ждем мы пождем, а царя все нет да нет. Уж солнышко закатываться за лес стало. Отошшали мы, инда тоска на нас напала... Только глядь, по дороге, прямо на нас валит кто-то страшенный, с усами, на коне: как подлетел, как пужанет во все горло: "Такие из-этакие, на колени! Государь едет!.." Так мы и пали ничком, и лежим словно на страшной неделе - Господи, владыко живота моего - и головы поднять не смеем. Много ли, мало ли мы так лежали, только как загогочет кто-то опять: "Государь едет!" Поднял я бочком голову: вижу, не то казаки, не то егеря летят во всю мочь и гигикают, а по дороге, брат ты мой, этак в шагах в тридцати, жарит тройка лошадей, каких и отроду не видывал: копыта - во какие, дуга - во какая, - и Тургенев широко разводит своими мощными руками, - кучер как чудо-юдо бородатое, а в брычке, значит, сидит сам ен, и того больше, шинель серая, фуражка с красным околышем, а голова, ну вот умри я, что пивной котел, ровно у Лукопера богатыря. Прожег мимо нас, как молния какая, крикнул зычно таково: "Стой! - и остановился шагах в пяти от нас. - Вставай, пгаваславные!" - а голос, как труба, только что с картавинкой, как у нашей старшей барышни. Мы вскочили. Стоят царские лошади, что вкопанные, и ямщик, как астатуй какой, сидит, а царь, не слезая, приподнялся, повернулся, значит, к нам с брычки, через верх спущенный, да и начал говорить грозно так сначала, да слова все какие-то мудреные, а потом словно бы смиловался, а под конец опять закричал: "Повиноваться господам помещикам, повиноваться вам им!" Да как подымет руку, да как погрозит нам ба-а-альшущим пальцем, да как крикнет кучеру: "Айда!" Лошади опять, как молния, в гору по дороге, промеж леску, а солнышко уж село, и заря уж погорела, а царь все держится за брычку, стоит к нам обернумши да пальцем грозит, а палец-то евойный - во какой, что столб, - по небу-то огневому качается..." "Ну и что же?" - спрашиваю я мужика, - продолжает Тургенев, убравши свой не меньше легендарного царского палец. "Ну, вестимое дело, и повиновались, только уж и драли нас за это!" - "Как, за что за это?" - недоумевал я. "Да мы, знычит, землю ту у помещика так и отпахали". - "Как отпахали? А разве вы не слыхали, что вам царь-то говорил, чтоб повиноваться помещикам?" - "Эх, барин, мы люди темные, мы рассудили, что накричать-то он на нас только для страху накричал, а что приказ от яво был помещикам, чтоб, знычит, теперь-то уж их благородиям да нам сиволапым повиноваться: буде-ста им над нами мудровать..." Другая встреча с "литературной артелью" состоялась в доме богатого мецената и издателя журнала "Слово" К. М. Сибирякова. Там разговора по душам вообще не получилось. Когда разночинцы вошли в роскошную залу, убранную какими-то тропическими растениями, когда увидели впереди стоявшее отдельно кресло, а вокруг него целый ряд стульев, уже занятых богатой публикой, - они смутились и заняли места в сторонке, около входной двери. На этом вечере говорил один Тургенев, в частности, о том, как изменяется народный характер. - Заехал я побывать в свое старое имение. Думаю, - посмотрю, как-то там, что осталось от старого, - все же старая поэзия, воспоминания... Признаться сказать, холодно почувствовалось, неуютно, сиротливо... Да оно так и должно быть!.. Так и должно быть... Велел это я старосте вынести на террасу самовар; сел, пью чай... Вот вижу: двигается торопливо к дому молодая деревня, все ближе и ближе. Смотрю: пиджаки, сапоги с наборами, глянцем так и прыщут, на головах картузы словно накрахмаленные натянуты, - идут, зернышки погрызывают, скорлупки на сторону побрасывают. Подошли, остановились невдалеке от меня. Смотрят: глаза веселые, бодрые. Приподняли не торопясь над головами фуражки, опять не торопясь аккуратно надели. - Ивану Сергеичу-с! - говорят. - Здравствуйте, господа. - Разгуляться, значит, к нам приехали? - Да. - Соскучились по родной стороне?.. - Соскучился. - Поди, не весело теперь у нас здесь? - Вот посмотрю. - Тэ-эк-с! Стоят, зернышки грызут, скорлупки на сторону побрасывают, - повторял Тургенев, - "Счастливо, говорят, оставаться, Иван Сергеич!" Ну, мыслимо ли было что-нибудь подобное двадцать лет тому назад?! Возникла неловкая пауза. И хотя публика ждала от Тургенева новых рассказов, вечер кончился так: Тургенев встал, посмотрел на часы, сконфузился и вышел. Когда Г. И. Успенский спустился вниз, он сердито посмотрел на него: "Да, хорош ваш Сибиряков!" Полного единодушия с молодежью, о котором мечтал Тургенев, не получилось. Более того: между ними пробежал холодок отчуждения: "Барин, чистокровный русский старый барин, - вспоминал Л. Е. Оболенский. - Мне не понравилась даже его наружность, в которой нельзя было уловить никакого выражения, кроме вежливости, любезности - и только. Что он думал, что он чувствовал - это осталось тайной. Его вопросы о литературе, о новых ее течениях были как-то мимолетны, в них не чувствовалось живого, глубокого интереса к русской жизни, как будто бы он был или совершенно равнодушен к этой жизни, или уверен, что знает ее вполне и что никто ему не скажет ничего нового, а если он и предлагает некоторые вопросы, то только для того, чтобы быть любезным. Вообще же впечатление было таково, что он страшно далек от мира, который дорог мне и людям, окружавшим меня в то время, что между нами нет даже возможности представить себе какой-нибудь мостик, какое-нибудь общение, что это - человек совсем иного мира, иных привычек, вкусов, чем мы..." Отрадным явлением петербургской жизни 1880 года по-прежнему оставалась для Тургенева М. Г. Савина. Он посещал театр и видел молодую актрису в "Дикарке" Островского, в "Майорше" Шпажинского, не уставая восхищаться ее красотой и редким талантом. Уезжая в Москву на пушкинский праздник, Тургенев сказал Савиной: "Изо всех моих петербургских впечатлений самым дорогим и хорошим остаетесь вы!" Праздник Пушкина, праздник русской литературы, его, тургеневский праздник! Когда редактор "Вестника Европы" М. М. Стасюлевич заикнулся однажды, что он любит Пушкина более, чем кто-либо, Тургенев сильно осерчал: - Вас Пушкин не может занимать более, чем меня - это мой идол, мой учитель, мой недосягаемый образец! Я, как Стаций о Вергилии, могу сказать каждому из моих произведений: "Следы его всегда почитай!" Была у Тургенева заветная мечта: "Очень было бы желательно, чтобы вся литература единодушно сгруппировалась бы на этом пушкинском празднике". Тургенев был избран членом юбилейного комитета и принимал самое горячее участие в подготовке предстоящих торжеств. Комитет поручил Тургеневу "трудную работу: написать небольшую брошюру о значении Пушкина, которую будут раздавать бесплатно" всем участникам праздника. Писатель решил, как всегда, поработать над нею в Спасском-Лутовинове и в начале мая отправился на родину, решив по пути заехать к Л. Н. Толстому и уговорить этого упрямца не отказываться от участия в юбилейных торжествах. И вот они бродят по весеннему "Чепыжу", любуясь сквозистой зеленью берез, прислушиваясь к немолчному птичьему гомону. "Это поет малиновка, - говорит Тургенев, - это - коноплянка, это - овсянка". Толстой признавался, что он так хорошо не знает пенья птиц. Вечером отправились на тягу вальдшнепов через речку Воронку в казенный лес "Засеку". На место прибыли как раз к заходу солнца. Затихло в лесу, только по кустам кое-где цевкали неугомонные дрозды да на болотце гулко бурлили весенние лягушки. Толстой поставил Тургенева на лучшую свою полянку, а сам отошел в сторону, пристроившись неподалеку в тени ольховых кустов. Софья Андреевна осталась с Тургеневым и, между прочим, спросила его, почему он в последнее время перестал писать. - Я конченый писатель, Софья Андреевна... Нас никто не слышит? Так я вам скажу по секрету. Раньше всякий раз, как я задумывал написать новую вещь, меня трясла лихорадка любви. Теперь это прошло. Я стар - и не могу более ни любить, ни писать... Послышался выстрел. - Началось, - шепнул Тургенев. - Лев Николаевич уже с полем. Вот кому счастье. Ему всегда в жизни везло. Вдруг в чуткой тишине, вдали, послышалось загадочное "хорканье", как будто кто-то упорно рвал тугую, крепкую материю, все ближе, ближе... Донеслись наконец и характерные прицокивания: "цук-цук, цук-цук", и из синеющих сумерек вынырнул над поляной темный силуэт плавно летящей птицы. Тургенев ловко вскинул ружье и выстрелил. - Убили? - приглушенно выкрикнул Толстой. - Камнем упал! - ответил Тургенев. Но вальдшнепа его собака так и не нашла. Тургенев смутился как мальчишка: получалось, что он зря похвастался, "ради фразы"... На другой день утром Сережа Толстой с братом Ильюшей специально ездили на поиски. Тургенев не ошибся: собака не могла найти птицу, так как она повисла на дереве между густых сучьев. Уговорить упрямого Толстого принять участие в пушкинских торжествах оказалось нелегко. Лев Николаевич считал юбилейные собрания литераторов чем-то противоестественным и даже оскорбляющим память о поэте. Фальшивые спичи за вином и закуской, фальшивые речи... Тургенев соглашался с Толстым: "Нельзя допустить, чтобы все, сколько угодно, гуляли и возились около Пушкина: ставят же ограды около мраморных статуй. Но раз в десять-двадцать лет почтить память национального поэта в кругу литераторов - что в этом противоестественного, особенно в настоящий момент, требующий от русской интеллигенции сплочения вокруг общего знамени гуманизма, свободы и демократии. Да и в обществе, слава Богу, назревает благотворный поворот: пора нигилистических расправ над Пушкиным уходит в прошлое. Я познакомился в Париже с одним очень неглупым тридцатилетним русским, который признался мне, что в молодости любил поэзию и Пушкина, играл на скрипке и рисовал - и бросил все это под влиянием Писарева (и не один он это сделал), - а теперь, окургузившись кругом, не знает, к чему приткнуться, и только охает. Вот поди, отрицай силу слова!" Толстой согласно кивал головой, но ехать в Москву все-таки отказывался. Спустя много лет он так объяснял свой отказ: "Вспоминаю, как давно уже, лет около тридцати тому назад, во время чествования Пушкина и поставления ему памятника, милый Тургенев заехал ко мне, прося меня ехать с ним на этот праздник. Как ни дорог и мил мне был тогда Тургенев, как я ни дорожил и высоко ценил (и ценю) гений Пушкина, я отказался... потому что и тогда уже такого рода чествования мне представлялись чем-то неестественным и, не скажу ложным, но не отвечающим моим душевным требованиям". Ничего не вышло у Тургенева, и он уехал из Ясной Поляны в Спасское с тяжелым недоумением в душе. И вот он снова в аллеях старого деревенского сада, в мире дремлющих лучей солнца и теней. "Замираешь с каким-то ощущением торжественности, бесконечности - и отупения, в котором есть нечто и от зверя, и от бога. Выходишь из этого состояния словно после какой-то сильнодействующей ванны. А затем снова вступаешь в привычную житейскую колею". Обдумывая пушкинскую речь в тенистой беседке, на высоком берегу пруда, в прохладном кабинете спасского дома, Тургенев в который раз убеждался в том, "что пишется хорошо, только живя в русской деревне. Там и воздух-то как будто "полон мыслей"! И полон воспоминаний - детских, юношеских. Уже никогда не придет поутру старый друг Афанасий. Восемь лет прошло, как его нет на свете. Последний раз он встречался с ним, кажется, в 1868 году. Увлеченно рассказывал о своих охотничьих подвигах в Бадене, о том, как там устраивают облавы с загонщиками, описывал ему не без преувеличений внешность фазана - он их никогда не видел - и забавлялся его изумлением. А когда Афанасий узнал, что Тургенев привез ружье, заряжающееся с казенной части, удивлению старого охотника не было предела. Эх, охота! страсть горячая, сильная, неистомная! Подарил он тогда Афанасию это ружье. Да недолго ему пришлось поохотиться. Где-то около 1869 года тяжело захворал бедняга, ноги совсем отнялись. Прикованный болезнью к одному месту, приткнувшись к косяку на пороге избы, он по-прежнему давал советы и указывал хорошие места окрестным охотникам, неизменно к нему обращавшимся. Со слезами на глазах смотрел вслед уходившим счастливцам, сопровождать которых уже не мог. Но дареное ружье оставалось для него священным предметом, даже трогать его он никому не позволял. Перед смертью Афанасий приказал достать ружье с крючка, тщательно его вычистил и положил себе под изголовье... Говорили, что когда в 1872 году тело Афанасия везли на кладбище, заяц перебежал дорогу похоронной процессии... Вот и Тургенев с завистью глядит вслед молодым охотникам. А давно ли, кажется, он был неутомимым ходоком. Теперь же охотничьи странствия видятся ему волшебным сном: проклятая подагра лишила последнего удовольствия. Добряк Писемский как-то горько пошутил на этот счет: "Господи! за что вас мучит подагра - мы пьянствовали, а вы за нас мучаетесь". В прошлый приезд на родину, приковыляв в сад на костылях, Тургенев приказал слуге принести ружье - спугнуть ворону с дальних деревьев. Стоя на костылях, ему трудно было целиться. Прогремел выстрел - и ворона как ни в чем не бывало продолжила свой путь. Тургенев сел на скамью, потупил голову и грустно сказал: - Прежде я стрелял перепелок без промаха, а теперь не могу попасть даже в ворону!... Пора умирать! Как гром среди ясного неба принеслась из Парижа скорбная весть. Умер Флобер! Умер лучший друг из числа французских друзей. "Золотой был человек и великий талант!" Исчез великий талант, а жизнь идет, и свет не перевернулся. Так же сияет солнце по утрам, заглядывая в тургеневский кабинет, тот же гомон птиц раздается в тенистых аллеях сада. Печаль Тургенева была светла. Вспоминались пушкинские строки: "И пусть у гробового входа / Младая будет жизнь играть, / И равнодушная природа / Красою вечною сиять". - Стоит ли заниматься таким пустым делом, которое всякий ленивый человек на гулянках может исполнить, - вспомнились слова брата Николая Сергеевича. - Вот ты и не ленив, - попенял ему Иван Сергеевич, - но даже одного стиха не напишешь, как Жуковский. - Нет ничего легче, - отвечал Николай: - "Дышит чистый фимиам Урною святою". - А ведь похоже, похоже!.. - восклицал Тургенев, заливаясь от смеха... Нет на земле и брата Николая, и Тургеневе, деревушка отца, прахом пошла после его смерти... Да и Спасское тоже переменилось, общей не избежав судьбы. "Набегают... набегают тени на жизнь - и падают они не на одно настоящее или будущее - но и на прошедшее. И то становится тусклее и туманнее". Уже не встретишь в Спасском знакомых, добродушных лиц верных старых слуг, не услышишь приветливого слова: "Барин наш, заступник наш приехал..." Новое время - новые песни. "По приезде сюда я был встречен следующею новостью: между всеми здешними мужиками и бабами ходили толки, что вследствие взрыва во дворце меня государь приказал замуровать в каменный столб и надеть мне на голову двенадцатифунтовую чугунную шапку. Вот в какие цветики выраживаются семена, столь тщательно посеянные опытными руками гг. Каткова и Кo". Только вечно суровый и угрюмый на вид Захар Балашев ходил за своим барином, как за ребенком, и... сравнивал себя с Савельичем из "Капитанской дочки" Пушкина - на своем веку он перечитал всех русских авторов, да и сам, подражая барину, писал повести в часы досуга, никому их не показывая. Умерли в Спасской богадельне и нянюшка, и кормилица Тургенева. Как любили его эти старые женщины! А теперь остались от них два портрета: у няни в руках ножницы, которыми она готовится резать кусок белой ткани, у кормилицы - маленький цыпленок... Да. "За несколько недель молодости - самой глупой, изломанной, исковерканной, но молодости, - отдал бы я не только мою репутацию, но славу действительного гения, если бы я был им. Что бы я тогда сделал, спросишь ты? - обращался Тургенев к Полонскому. - А хоть бы десять часов сряду с ружьем пробегал, не останавливаясь, за куропатками. И этого было бы достаточно - и это для меня теперь немыслимо..." В 1879 году, после восторженного приема в Москве и Петербурге, Тургенев писал: "Недавно на мое старческое сердце со всех сторон нахлынули молодые женские души - и под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывалого огня". Так случилось, что в это же время произошла встреча с тем прекрасным женским существом, на котором сошлись и почти по-пушкински замкнулись все уснувшие молодые мечты: И, может быть, на мой закат печальный Блеснет любовь улыбкою прощальной. Он полюбил Савину той последней отпущенной человеку любовью, которая "и блаженство, и безнадежность". 24 апреля Тургенев писал Савиной из Москвы: "Вчера, поздно вечером, получил я Ваши два письма... - и почувствовал (и не в первый раз после моего отъезда из Петербурга) - что Вы стали в моей жизни чем-то таким, с которым я никогда не расстанусь". И он пригласил Савину завернуть в Спасское по пути на гастроли в Одессу хотя бы на два дня. Савина отказалась. Тогда он выехал на встречу с нею 16 мая в Мценск и провел несколько часов в поезде от Мценска до Орла. Эти часы и были кульминацией его последнего любовного романа. 17 мая Тургенев писал: "Милая Мария Гавриловна. Теперь половина первого - полтора часа тому назад я вернулся сюда - и вот пишу Вам. Ночь я провел в Орле - и хорошую, потому что постоянно был занят Вами - и нехорошую, потому что глаз сомкнуть не мог... Сегодня - день, предназначенный на Ваше пребывание в Спасском - словно по заказу: райский. Ни одного облачка на небе - ветра нет, тепло... Когда вчера вечером я вернулся из вагона, а Вы были у раскрытого окна - я стоял перед Вами молча - и произнес слово "отчаянная". Вы его применили к себе - а у меня в голове было совсем другое... Меня подмывала уж точно отчаянная мысль... схватить Вас и унести в вокзал... Но благоразумие, к сожалению, восторжествовало - а тут и звонок раздался - и "ciao!" - как говорят итальянцы. Но представьте себе, что было бы в журналах!! Отсюда вижу корреспонденцию, озаглавленную "Скандал в Орловском вокзале": "Вчера здесь произошло необыкновенное происшествие: писатель Т. (а еще старик!), провожавший известную артистку С., ехавшую исполнять блестящий ангажемент в Одессе, внезапно, в самый момент отъезда, как бы обуян неким бесом, выхватил г-жу С-ну через окно из вагона, несмотря на отчаянное сопротивление артистки" и т. д., и т. д.". Вслед за этим письмом последовало письмо-стихотворение, письмо-поэма: высший взлет и духовное разрешение "следов былого огня": "Милая Мария Гавриловна! Однако, это ни на что не похоже. Вот уже третий день, как стоит погода божественная, я с утра до вечера гуляю по парку или сижу на террасе, стараюсь думать - да и думаю - о различных предметах - а там, где-то на дне души, все звучит одна и та же нота. Я воображаю, что я размышляю о Пушкинском празднике - и вдруг замечаю, что мои губы шепчут: "Какую ночь мы бы провели... А что было бы потом? А господь ведает!" И к этому немедленно прибавляется сознание, что этого никогда не будет и я так и отправлюсь в тот "неведомый край", не унеся воспоминания чего-то, мною никогда не испытанного. Мне почему-то иногда сдается, что мы никогда не увидимся: в Ваше заграничное путешествие я не верил и не верю, в Петербург я зимою не приеду - и Вы только напрасно уверяете себя, называя меня "своим грехом"! Увы! я им никогда не буду. А если мы и увидимся через два, три года - то я уже буду совсем старый человек. Вы, вероятно, вступите в окончательную колею Вашей жизни - и от прежнего не останется ничего. Вам это с полугоря... вся Ваша жизнь впереди - моя позади - и этот час, проведенный в вагоне, когда я чувствовал себя чуть не двадцатилетним юношей, был последней вспышкой лампады. Мне даже трудно объяснить самому себе, какое чувство Вы мне внушили. Влюблен ли я в Вас - не знаю; прежде это у меня бывало иначе. Это непреодолимое стремление к слиянию, к обладанию - и к отданию самого себя, где даже чувственность пропадает в каком-то тонком огне... Я, вероятно, вздор говорю - но я был бы несказанно счастлив, если бы... если бы... А теперь, когда я знаю, что этому не бывать, я не то что несчастлив, я даже особенной меланхолии не чувствую, но мне глубоко жаль, что эта прелестная ночь так и потеряна навсегда, не коснувшись меня своим крылом... Жаль для меня - и осмелюсь прибавить - и для Вас, потому что уверен, что и Вы бы не забыли того счастья, которое дали бы мне. Я бы всего этого не писал Вам, если бы не чувствовал, что это письмо прощальное. И не то чтобы наша переписка прекратилась - о, нет! я надеюсь, мы часто будем давать весть друг другу - но дверь, раскрывшаяся было наполовину, эта дверь, за которой мерещилось что-то таинственно чудесное, захлопнулась навсегда... Вот уж точно, что le veviou est tirИ (засов задвинут. - Ю. Л. ). Что бы ни случилось - я уже не буду таким - да и Вы тоже. Ну, а теперь довольно. Было... (или не было!) - да сплыло - и быльем поросло. Что не мешает мне желать Вам всего хорошего на свете и мысленно целовать Ваши милые руки. Можете не отвечать на это письмо... но на первое ответьте. Ваш Ив. Тургенев. P.S. Пожалуйста, не смущайтесь за будущее. Такого письма Вы уже больше не получите". ...6 июня в 12 часов дня состоялось торжественное открытие памятника Пушкину в Москве, ознаменовавшее начало великого праздника. По воспоминаниям современников, Тургенев стоял около памятника сияющий и просветленный. Его настроение невольно сообщалось всем окружающим. Он был несказанно счастлив, что честь возложения к подножию памятника венка от русских литераторов выпала вместе с И. С. Аксаковым на его долю. Открытие памятника Пушкину А. Ф. Кони назвал "одним из незабвенных событий русской общественной жизни последней четверти прошлого столетия. Тот, кто в нем участвовал, конечно, навсегда сохранил о нем самое светлое воспоминание. После ряда удушливых в нравственном и политическом смысле лет, с начала 1880 года стало легче дышать, и общественная мысль и чувство начали принимать хотя и не вполне определенные, но, во всяком случае, более свободные формы. В затхлой атмосфере застоя, где все начало покрываться ржавчиной отсталости, вдруг пронеслись свежие струи чистого воздуха - и все постепенно стало оживать. Блестящим проявлением такого оживления был и Пушкинский праздник в Москве". "С утра Москва приняла праздничный вид, и у памятника, закутанного пеленой, собрались многочисленные депутации с венками и хоругвями трех цветов: белого, красного и синего - для правительственных учреждений, ученых и литературных обществ и редакций. Ко времени окончания литургии в Страстном монастыре яркие лучи солнца прорезали облачное небо, и, когда из монастырских ворот показалась официальная процессия, колокольный звон слился с звуками оркестров, исполнявших коронационный марш Мендельсона. На эстраду взошел принц Ольденбургский со свитком акта о передаче памятника городу. Наступила минута торжественного молчания; городской голова махнул свитком, пелена развернулась и упала, и под восторженные крики "ура" и пение хоров, запевших "Славься" Глинки, предстала фигура Пушкина с задумчиво склоненной над толпою головой. Казалось, что в эту минуту великий поэт простил русскому обществу его старую вину перед собою и временное забвение. У многих на глазах заблистали слезы... Хоругви задвигались, поочередно склоняясь перед памятником, и у подножья его стала быстро расти гора венков". В этот же день, на обеде в Московской думе, возник эпизод, вызвавший много толков. Петербургские литераторы решили бойкотировать намечавшееся выступление Каткова и демонстративно выйти из зала, как только он начнет говорить свою речь. Тургенев особенно горячо поддерживал это решение: он-то, пожалуй, более всех пострадал в последнее время от выпадов катковской прессы. Но "когда после красивой речи И. С. Аксакова встал Катков и начал своим тихим, но ясным и подкупающим голосом тонкую и умную речь, законченную словами Пушкина: "Да здравствует разум, да скроется тьма!" - никто не только не ушел, но большинство - временно примиренное - двинулось к нему с бокалами. Чокаясь направо и налево с окружавшими, Катков протянул через стол свой бокал Тургеневу, которого перед тем он допустил жестоко "изобличать" и язвить на страницах своей газеты... Тургенев отвечал легким наклонением головы, но своего бокала не протянул. Окончив чоканье, Катков сел и во второй раз протянул бокал Тургеневу. Но тот холодно посмотрел на него и покрыл свой бокал ладонью руки". Впоследствии его за это упрекали. А. Н. Майков сетовал: - Эх, Иван Сергеевич, ну зачем вы не ответили на примирительное движение Каткова? Зачем не чокнулись с ним? В такой день можно все забыть! - Ну, нет! - живо ответил Тургенев. - Я старый воробей, меня шампанским не обманешь. В себе самом Тургенев не нашел достаточно сил для осуществления того идеала всеобщего примирения, который всю жизнь вынашивал в своей душе. Вдруг он, человек, считавший себя слабым, способным подчиняться чужому влиянию, обнаружил решительную невозможность мягкости и податливости по отношению к некоторым своим противникам. Как-то в разговоре с друзьями Тургенев сказал: "Я искренне ненавижу Каткова, но очень может быть, завтра вы меня увидите на Невском под руку с ним, бога ради, не подумайте, что я подлец. Своих убеждений я не меняю, но я не могу избавиться от неотразимого влияния на меня этого человека. Я просто перед ним пасую, я сам не знаю отчего. Как посмотрит он на меня своими оловянными глазами, я решительно уничтожаюсь, и он может делать из меня что хочет". На Пушкинском празднике Тургенев превзошел самого себя. "Вечером, в зале Дворянского собрания, был первый из трех устроенных в память Пушкина концертов, с пением и чтением поэтических произведений. На устроенной в зале сцене стоял среди тропических растений большой бюст Пушкина, и на нее поочередно выходили представители громких литературных имен, и каждый читал что-либо из Пушкина или о Пушкине. Островский, Полонский, Плещеев, Чаев, вперемежку с артистами и певцами, прошли перед горячо настроенной публикой. Появился и грузный, с типическим лицом и выговором костромского крестьянина, всклокоченный и с большими глазами навыкате Писемский. Вышел, наконец, и Тургенев. Приветствуемый особенно шумно, он подошел к рампе и стал декламировать на память, и нельзя сказать, что особенно искусно, "Последнюю тучу рассеянной бури", но на третьем стихе запнулся, очевидно его позабыв, и, беспомощно разведя руками, остановился. Тогда из публики, с разных концов, ему стали подсказывать все громче и громче. Он улыбнулся и сказал конец стихотворения вместе со всею залой. Этот милый эпизод еще более подогрел общее чувство к нему, и когда, в конце вечера, под звуки музыки все участники вышли на сцену с ним во главе и он возложил на голову бюста лавровый венок, а Писемский затем, сняв этот венок, сделал вид, что кладет его на голову Тургенева, - весь зал огласился нескончаемыми рукоплесканиями и громкими криками "браво". 7 июня на заседании Общества любителей российской словесности Тургенев выступил с речью о Пушкине. Он говорил об особой "художественной восприимчивости" Пушкина, о "мощной силе самобытного присвоения чужих форм". Эту способность "сами иностранцы признают за нами, правда, под несколько пренебрежительным именем способности к "ассимиляции". И здесь Тургенев шел за Белинским, впервые отметившим эту черту пушкинского дарования, эту способность его "быть как у себя дома во многих и самых противоположных сферах жизни". Тургенев говорил, что самая сущность поэзии Пушкина "совпадает со свойствами, сущностью нашего народа. Не говоря уже о мужественной прелести, силе и ясности его языка, эта прямодушная правда, отсутствие лжи и фразы, простота, эта откровенность и честность ощущений - все эти хорошие черты хороших русских людей поражают в творениях Пушкина не одних нас, его соотечественников, которым он стал доступен. Суждения иноземцев бывают драгоценны: их не подкупает патриотическое увлечение. "Ваша поэзия, - сказал нам однажды Мериме, известный французский писатель и поклонник Пушкина, которого он, не обинуясь, называл величайшим поэтом своей эпохи, чуть ли не в присутствии самого Виктора Гюго, - ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою; наши поэты, напротив, идут совсем противоположной дорогой: они хлопочут прежде всего об эффекте, остроумии, блеске, и если ко всему этому им предстоит возможность не оскорблять праводоподобия, так они и это, пожалуй, возьмут в придачу". "У Пушкина, - прибавлял он, - поэзия чудным образом расцветает как бы сама собою из самой трезвой прозы". Тургенев отметил, что "Пушкин не избег общей участи художников-поэтов, начинателей. Он испытал охлаждение к себе современников; последующие поколения еще более удалились от него". Причины охлаждения "лежали в самой судьбе, в историческом развитии русского общества, в условиях, при которых зарождалась новая жизнь, вступившая из литературной эпохи в эпоху политическую... Не до поэзии, не до искусства стало тогда... Миросозерцание Пушкина показалось узким, его горячее сочувствие нашей, иногда официальной славе - устарелым, его классическое чувство меры и гармонии - холодным анахронизмом". "Не станем, однако, слишком винить эти поколения... это забвение было неизбежно. Но мы не можем также не радоваться этому возврату к поэзии". В своей речи Тургенев признал народный и национальный характер поэзии Пушкина. Он говорил, что "самая сущность, все свойства его поэзии" народны: Пушкин "дал окончательную обработку нашему языку", "отозвался типическими образами, бессмертными звуками на все веяния русской жизни". И "русский народ имеет право называться великим народом потому, что среди этого народа родился, в ряду других великих, и такой человек!" Но признать всемирное значение творчества Пушкина Тургенев не решился, несмотря на то, что трижды подходил к этой теме. "Вопрос: может ли Пушкин назваться поэтом национальным, в смысле Шекспира, Гёте и других, мы оставим пока открытым, - говорил Тургенев, - быть может, явится новый, еще неведомый избранник, который превзойдет своего учителя и заслужит вполне название национально-всемирного поэта, которое мы не решаемся дать Пушкину, хотя и не дерзаем его отнять у него". Не такого выступления ждала от Тургенева молодежь. Встретили писателя дружно и шумно, однако речь его расхолодила публику, особенно в той ее части, где Тургенев проявлял колебания в определении национального и всемирного значения Пушкина-поэта. Подлинным триумфом оказалась на Пушкинских праздниках речь Достоевского, произнесенная с удивительным талантом и редкой силой убеждения на другой день торжеств, 8 июня. Достоевский говорил о том, что Пушкин - пророческое явление русского духа. И хотя поэты Европы имели на него свое влияние, он никогда не был простым их подражателем. Так, уже в Алеко, герое поэмы "Цыганы", сказалась не байроническая, но совершенно русская мысль о национальном типе человека-скитальца, оторванного от народа. Эти русские скитальцы до сих пор продолжают свои странствия и долго еще не исчезнут. Ими движет поиск счастья, и счастья не только для себя, но и всемирного. Люди этого типа возникли после петровской реформы в оторванном от народа интеллигентном обществе. К ним относил Достоевский и героев Тургенева, "лишних людей", а также революционеров-социалистов. В "Цыганах" Пушкин дал, по Достоевскому, и русское решение вопроса по народной вере и правде: "Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве". Скитальцу Онегину Пушкин противопоставил Татьяну - тип, твердо стоящий на родной почве. Этот тип почти уже и не повторялся в нашей литературе, кроме разве образа Лизы в "Дворянском гнезде) Тургенева. Гений Пушкина, русский гений, наделен уникальной способностью - "всемирной отзывчивостью". Эту главнейшую способность русской нации он разделяет с народом нашим. Ни один из европейских поэтов не воплощал в себе с такой силой гений соседних с ним народов, не обладал свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность. Тут-то и выразилась, по Достоевскому, наиболее национальная русская сила с ее стремлением ко всемирности и всечеловечности. Реформа Петра показала, что народ наш обладает уникальной, единственной во всем мире возможностью принимать в душу свою гении чужих наций, умея инстинктом извинять и примирять различие между ними. "О, все это славянофильство и западничество наше есть только одно великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретаемая, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если вы захотите вникнуть в нашу историю после петровской реформы, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо, что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой?.. И впоследствии... стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братской любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!... Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловеческому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. ...Если бы жил он дольше, может быть, явил бы бессмертные и великие образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям... Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бесспорно, унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем". "Последние эти слова своей речи Достоевский произнес каким-то вдохновенным шепотом, опустив голову, и стал как-то торопливо сходить с кафедры при гробовом молчании, - вспоминали современники. - Зал точно замер, как бы ожидая чего-то еще. Вдруг из задних рядов раздался крик: "Вы разгадали!", подхваченный несколькими женскими голосами на хорах. Весь зал встрепенулся. Послышались крики: "Разгадали! Разгадали!" - гром рукоплесканий, какой-то гул, топот... Кричали и хлопали буквально все - и в зале, и на эстраде. Аксаков бросился обнимать Достоевского. Тургенев, спотыкаясь как медведь, шел прямо к Достоевскому с раскрытыми объятиями. Какой-то истерический молодой человек, расталкивая всех, бросился к эстраде с болезненным криком: "Достоевский, Достоевский!" - и вдруг упал навзничь в обмороке..." Достоевского увели в ротонду под руки Тургенев и Аксаков; он ослабел... Казалось, пришла долгожданная минута всенародного торжества, братского единения всех партий, всех общественных течений русского общества. П. В. Анненков подбежал к Достоевскому со словами: "Вы гений, вы более чем гений!" Иван Аксаков вышел на эстраду и объявил, что своей речи читать не будет, ибо все сказано и все разрешено великим словом Достоевского. "Это не просто речь, а историческое событие! - сказал Аксаков. - Туча облегала горизонт, и вот слово Достоевского, как появившееся солнце, все рассеяло, все осветило. С этой поры наступает братство и не будет недоумений". А возбужденная аудитория стоголосым эхом откликнулась: "Да! Да!" Однако иллюзорность надежд на примирение противоположных общественных направлений обнаружилась уже на второй день, как только сгладилось первое впечатление от вдохновенной речи Достоевского и она стала предметом критического анализа. Газета "Молва" от 13 июня писала: "Все это очень заносчиво и потому фальшиво. Что за выделение России в какую-то мировую особь". 18 июня газета "Русский курьер" в передовой статье отмечала: "Русская интеллигенция прежде всего должна была завоевать себе в государстве ту независимость и влияние, какими она пользуется на Западе. Если гордый интеллигентный человек должен смириться перед народною правдою, то и смиренный народ должен подняться до понимания хотя бы Пушкина". Либеральный профессор А. Д. Градовский отвечал Достоевскому в "Голосе" от 25 июня 1880 года: "Правильнее было бы сказать и современным "скитальцам" и "народу": смиритесь перед требованиями той общечеловеческой гражданственности, к которой мы, слава Богу, приблизились благодаря реформам Петра. Впитайте в себя все, что произвели лучшего народы - учители ваши. Тогда, переработав в себе всю эту умственную и нравственную пищу, вы сумеете проявить и всю силу вашего национального гения". Несогласия с Достоевским возникли даже в кругу славянофилов. В противоположность И. С. Аксакову, А. И. Кошелев в десятом номере "Русской мысли" за 1880 год писал: "Вполне согласны, что Пушкин народный поэт и, прибавим - первой степени, но что отзывчивость составляет главнейшую особенность нашей народности - это, кажется нам, неверно; и мы глубоко убеждены, что не это свойство утвердило за Пушкиным достоинство народного поэта... Не могу также согласиться со следующим мнением господина Достоевского: "Что такое сила духа русской народности, как не стремление ее, в конечных целях своих, ко всемирности и всечело-вечности?" Думаем, что это стремление также вовсе не составляет отличительной черты характера русского народа. Все народы, все люди более или менее, с сознанием или без сознания, стремятся осуществить идею человека - это задача каждого из нас. До сих пор с сознанием мы менее других ее исполняем или даже стремимся к ее исполнению". Г. И. Успенский так объяснял причину необыкновенного успеха речи Достоевского в кругах революционно настроенной народнической молодежи: "Как же было не приветствовать господина Достоевского, который в первый раз, в течение трех десятков лет с глубочайшею (как кажется) искренностью решился сказать всем исстрадавшимся в эти трудные годы - "Ваше неуменье успокоиться в личном счастье, ваше горе и тоска о несчастье других и, следовательно, ваша работа, как бы несовершенна она ни была, на пользу всеобщего благополучия - есть предопределенная всей нашей природой задача, лежащая в сокровенных основах нашей национальности". "Конечно, молодежь, делавшая овации Достоевскому, - писал П. Л. Лавров, - брала из его речи не то, что он действительно говорил, а то, что соответствовало ее стремлениям. Не христианское прощение зла, наносимого братьям, читала она в туманных словах нервного оратора, <...> а солидарность в борьбе за право на лучшую будущность для всех обездоленных братьев против их эксплуататоров всех наций. Она готова была смириться перед народом, <...> жертвуя ему своими интересами, своим благополучием, своею жизнью, но перед народом, в пробуждающемся сознании которого она читала ненависть к его вековым притеснителям, перед народом, который, в стремлении к правде умственной и нравственной, "принял бы в свою суть" уже не Христа, смиренно переносящего заушения, а Христа, воскресшего из могилы невежества и бессознательности, Христа, являющегося справедливым и грозным судьею". Тургенев тоже не случайно поддался общему эмоциональному порыву. Было в речи Достоевского что-то родственное его собственным взглядам на Пушкина и на русскую жизнь. Во-первых, обе речи - и Тургенева, и Достоевского - восходили к общему источнику, к оценке пушкинского гения Белинским и Гоголем. Ведь именно Белинский впервые назвал Пушкина Протеем, гением, способным легко и свободно перевоплощаться в культуры других наций. На эту особенность Пушкина обращал внимание и Гоголь: "И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком - грек, на Кавказе - вольный горец, в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к мужику в избу - он русский с головы до ног". Белинский же приближался к мысли о пророческой сути пушкинской переимчивости. В статье "Взгляд на русскую литературу 1846 года" он писал: "Не любя гаданий и мечтаний и пуще всего боясь произвольных, личных выводов, мы не утверждаем за непреложное, что русскому народу предназначено выразить в своей национальности наиболее богатое и многостороннее содержание и что в этом заключается причина его удивительной способности воспринимать и усваивать себе все чуждое ему; но смеем думать, что подобная мысль, как предположение, высказываемое без самохвальства и фанатизма, не лишена основания". Во-вторых, признание Достоевским высокого трагического смысла за "русским скитальцем" не могло не польстить Тургеневу, автору "Рудина", где тема бесприютного скитальчества поднимается на большую нравственную высоту. Лежнев неспроста говорит Рудину: "Ты назвал себя Вечным Жидом... А почему ты знаешь, может быть, <...> ты исполняешь этим высшее, для тебя самого неизвестное назначение: народная мудрость гласит недаром, что все мы под Богом ходим". Наконец, когда Достоевский, рассуждая о пушкинской Татьяне, сказал, что этот тип русской женщины не повторялся впоследствии, кроме, может быть, тургеневской Лизы, - в зале раздались овации и крики, а Тургенев послал Достоевскому воздушный поцелуй... Но какую-то неудовлетворенность оставила в душе Тургенева и эта речь, и этот чрезмерный энтузиазм, и эти женщины, бросившиеся с венком к Достоевскому и потеснившие Тургенева со словами: "Не вам! Не вам!" И уже 13 июня Тургенев написал из Спасского письмо редактору журнала "Вестник Европы" М. М. Стасюлевичу: "Не знаю, кто у вас в "Вестнике Европы" будет писать о Пушкинских праздниках, но не мешало бы заметить ему следующее: и в речи Ив. Аксакова, и во всех газетах сказано, что лично я совершенно покорился речи Достоевского и вполне ее одобряю. Но это не так - и я еще не закричал: "Ты победил, галилеянин!" Эта очень умная, блестящая и хитро-искусная, при всей страстности, речь всецело покоится на фальши, но фальши, крайне приятной для русского самолюбия. Алеко Пушкина чисто байроновская фигура - а вовсе не тип современного русского скитальца; характеристика Татьяны очень тонка - но неужели же одни русские жены пребывают верны своим старым друзьям? А главное: "Мы скажем последние слова Европе, мы ее ей же подарим - потому что Пушкин гениально воссоздал Шекспира, Гёте и пр."? Но ведь он их воссоздал , а не создал - и мы точно так же не создадим новую Европу - как он не создал Шекспира и др. И к чему этот всечеловек , которому так неистово хлопала публика? Да быть им вовсе и не желательно: лучше быть оригинальным русским человеком, чем этим безличным всечеловеком. Опять все та же гордыня под личиною смирения. Может быть, европейцам оттого и труднее та ассимиляция, которую возводят в какое-то гениальное всемирное творчество, что они оригинальнее нас. Но понятно, что публика сомлела от этих комплиментов, да и речь была действительно замечательная по красивости и такту. Мне кажется, нечто в этом роде следует высказать. Господа славянофилы нас еще не проглотили". Так в частном письме обнаружились "западнические крайности", которые в речи своей Тургенев непроизвольно сдерживал; здесь он полностью солидарен с теми иностранцами, которые считают отзывчивость Пушкина выражением русской способности к "ассимиляции". Ста-сюлевич в "Вестнике Европы" высказался на этот счет по тургеневской канве прямо и недвусмысленно: "Наша "всечеловечность" была "просто признаком известной ступени развития, стремлением усвоить сделанные ранее другими приобретения; наклонность вживаться в умственную жизнь Европы не была ли следствием умственной бедности нашего собственного быта, бедности, которую столько могущественных причин производили и поддерживали. ...Речь Достоевского была построена на фальши - на фальши, крайне приятной только для раздраженного самолюбия". Если в душе Тургенева теплились патриотические чувства, заставившие его "сомлеть от комплиментов" Достоевского, то стасюлевичи и спасовичи хладнокровно укатывали эти чувства тяжелым западническим катком. |
| Иван Тургенев.ру © 2009, Использование материалов возможно только с установкой ссылки на сайт |