| ГЛАВНАЯ |  | БИОГРАФИЯ |  | ТВОРЧЕСТВО |  | КРИТИКА |  | ПИСЬМА |  | РЕФЕРАТЫ |
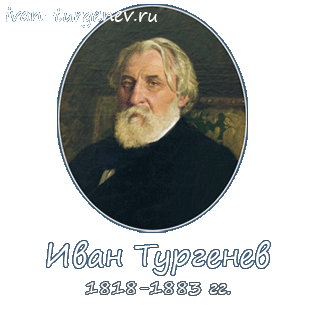
Глава 26 - "Дым" - Роман И.С.ТургеневаНам случилось однажды войти в избу крестьянки, только что потерявшей единственного, горячо любимого сына, и, к немалому нашему удивлению, найти ее совершенно спокойною, чуть не веселою. "Не замайте,сказал ее муж, от которого, вероятно, не скрылось это удивление,- она теперь закостенела". И Литвинов так же "закостенел". Такое же спокойствие нашло на него в первые часы его путешествия. Совершенно уничтоженный и безнадежно несчастный, он, однако, отдыхал, отдыхал после тревог и терзаний последней недели, после всех этих ударов, раз за разом обрушившихся на его голову. Они тем сильнее его потрясли, чем менее он был создан для подобных бурь. Он уж точно ни на что не надеялся теперь и старался не вспоминать - пуще всего не вспоминать; он ехал в Россию...- надо же было куда-нибудь деваться! - но уже никаких, лично до собственной особы касающихся, предположений не делал. Он не узнавал себя; он не понимал своих поступков, точно он свое настоящее "я" утратил, да и вообще он в этом "я" мало принимал участия. Иногда ему сдавалось, что он собственный труп везет, и лишь пробегавшие изредка горькие судороги неизлечимой душевной боли напоминали ему, что он еще носится с жизнью. По временам ему казалось непостижимым, каким образом может мужчина - мужчина! - допустить такое влияние на себя женщины, любви... "Постыдная слабость!" - шептал он и встряхивал шинелью и плотнее усаживался: вот, дескать, старое кончено, начнем новое... Минута - и он только улыбался горько и дивился самому себе. Он принялся глядеть в окно. День стоял серый и сырой; дождя не было, но туман еще держался и низкие облака заволокли все небо. Ветер дул навстречу поезду; беловатые клубы пара, то одни, то смешанные с другими, более темными клубами дыма, мчались бесконечною вереницей мимо окна, под которым сидел Литвинов. Он стал следить за этим паром, за этим дымом. Беспрерывно взвиваясь, поднимаясь и падая, крутясь и цепляясь за траву, за кусты, как бы кривляясь, вытягиваясь и тая, неслись клубы за клубами: они непрестанно менялись и оставались те же... Однообразная, торопливая, скучная игра! Иногда ветер менялся, дорога уклонялась - вся масса вдруг исчезала и тотчас же виднелась в противоположном окне; потом опять перебрасывался громадный хвост и опять застилал Литвинову вид широкой прирейнской равнины. Он глядел, глядел, и странное напало на него размышление... Он сидел один в вагоне: никто не мешал ему. "Дым, дым",- повторил он несколько раз; и все вдруг показалось ему дымом, все, собственная жизнь, русская жизнь - все людское, особенно все русское . Все дым и пар, думал он; все как будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности все то же да то же; все торопится, спешит куда-то - и все исчезает бесследно, ничего не достигая; другой ветер подул - и бросилось все в противоположную сторону, и там опять та же безустанная, тревожная и - ненужная игра. Вспомнилось ему многое, что с громом и треском совершалось на его глазах в последние годы.. Дым, шептал он, дым; вспомнились горячие споры, толки и крики у Губарева, у других, высоко- и низкопоставленных, передовых и отсталых, старых и молодых людей... Дым, повторял он, дым и пар. Вспомнился, наконец, и знаменитый пикник, вспомнились и другие суждения и речи других государственных людей - и даже все то, что проповедовал Потугин ... дым, дым, и больше ничего. А собственные стремления, и чувства, и попытки, и мечтания? Он только рукой махнул. А между тем поезд бежал да бежал; уже давно и Раштадт, и Карлсруэ, и Брухзаль остались назади; горы с правой стороны дороги сперва отклонились, ушли вдаль, потом надвинулись опять, но уже не столь высокие и реже покрытые лесом... Поезд круто повернул в сторону... вот и Гейдельберг. Вагоны подкатились под навес станции; раздались крики разносчиков, продающих всякие, даже русские, журналы; путешественники завозились на своих местах, вышли на платформу; но Литвинов не покидал своего уголка и продолжал сидеть, потупив голову. Вдруг кто-то назвал его по имени; он поднял глаза: рожа Биндасова просунулась в окно, а за ним - или это ему только померещилось? - нет, точно, все баденские, знакомые лица: вот Суханчикова, вот Ворошилов, вот и Бамбаев; все они подвигаются к нему, а Биндасов орет: - А где же Пищалкин? Мы его ждали; но все равно; вылезай, сосюля, мы все к Губареву. - Да, братец, да, Губарев нас ждет,- подтвердил, выдвигаясь, Бамбаев, вылезай. Литвинов рассердился бы, если б не то мертвое бремя, которое лежало у него на сердце. Он глянул на Биндасова и отвернулся молча. - Говорят вам, здесь Губарев! - воскликнула Суханчикова, и глаза ее чуть не выскочили. Литвинов не пошевелился. - Да послушай, Литвинов,- заговорил наконец Бамбаев,- здесь не один только Губарев, здесь целая фаланга отличнейших, умнейших молодых людей, русских - и все занимаются естественными науками, все с такими благороднейшими убеждениями! Помилуй, ты для них хоть останься. Здесь есть, например, некто... эх! фамилию забыл! но это просто гений! - Да бросьте его, бросьте его, Ростислав Ардалионыч, - вмешалась Суханчикова,- бросьте! Вы видите, что он за человек; и весь его род такой. Тетка у него есть; сначала мне показалась путною, а третьего дня еду я с ней сюда - она перед тем только что приехала в Баден, и глядь! уж назад летит, ну-с, еду я с ней, стала ее расспрашивать... Поверите ли, слова от гордячки не добилась. Аристократка противная! Бедная Капитолина Марковна - аристократка! Ожидала ли она подобного посрамления?! А Литвинов все молчал, и отвернулся, и фуражку на глаза надвинул. Поезд тронулся наконец. - Да скажи хоть что-нибудь на прощанье, каменный ты человек! - закричал Бамбаев.- Этак ведь нельзя! - Дрянь! колпак! - завопил Биндасов. Вагоны катились все шибче и шибче, и он мог безнаказанно ругаться .- Скряга! слизняк! каплюжник!! Изобрел ли Биндасов на месте это последнее наименование, перешло ли оно к нему из других рук, только оно, по-видимому, очень понравилось двум тут же стоявшим благороднейшим молодым людям, изучавшим естественные науки, ибо несколько дней спустя оно уже появилось в русском периодическом листке, издававшемся в то время в Гейдельберге под заглавием: "А toyt venant je crache!" - или: "Бог не выдаст, свинья не съест". А Литвинов опять затвердил свое прежнее слово: дым, дым, дым! Вот, думал он, в Гейдельберге теперь более сотни русских студентов; все учатся химии, физике, физиологии - ни о чем другом и слышать не хотят ... А пройдет пять-шесть лет, и пятнадцати человек на курсах не будет у тех же знаменитых профессоров... ветер переменится, дым хлынет в другую сторону... дым... дым... дым! К ночи он проехал мимо Касселя. Вместе с темнотой тоска несносная коршуном на него спустилась, и он заплакал, забившись в угол вагона. Долго текли его слезы, не облегчая сердца, но как-то едко и горестно терзая его; а в то же время в одной из гостиниц Касселя, на постели, в жару горячки, лежала Татьяна; Капитолина Марковна сидела возле нее. - Таня,- говорила она,- ради бога, позволь мне послать телеграмму к Григорию Михайловичу; позволь, Таня. - Нет, тетя,- отвечала она,- не надо, не пугайся. Дай мне воды; это скоро пройдет. И действительно, неделю спустя здоровье ее поправилось, и обе подруги продолжали свое путешествие. |
| Иван Тургенев.ру © 2009, Использование материалов возможно только с установкой ссылки на сайт |