| ГЛАВНАЯ |  | БИОГРАФИЯ |  | ТВОРЧЕСТВО |  | КРИТИКА |  | ПИСЬМА |  | РЕФЕРАТЫ |
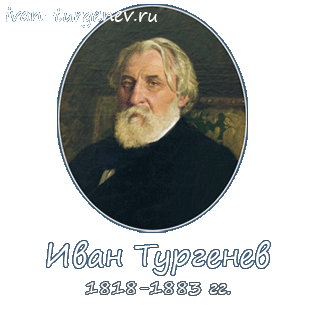
Часть 38 - "Новь" - Роман И.С.ТургеневаЧерез два дня после всех этих происшествий на двор к "складному" попу Зосиме въехала тележка, в которой сидели мужчина и женщина, уже известные нам, и на другой же день после их приезда они сочетались браком. Вскоре потом они исчезли - и добрый Зосима нисколько не горевал о том, что он сделал. На фабрике, оставленной Соломиным, оказалось письмо; адресованное на имя хозяина и доставленное ему Павлом; в нем отдавался полный и точный отчет о положении дел (оно было блестящее) и выпрашивался трехмесячный отпуск. Письмо это было написано за два дня до смерти Нежданова, из чего можно было заключить, что Соломин уже тогда считал нужным уехать с ним и с Марианной и скрыться на время. Следствие, произведенное по поводу самоубийства, ничего не открыло. Труп похоронили; Сипягин прекратил всякое дальнейшее искание своей племянницы. А месяцев девять спустя судили Маркелова. Он и на суде держал себя так же, как перед губернатором: спокойно, не без достоинства и несколько уныло. Его обычная резкость смягчилась - но не от малодушия: тут участвовало другое, более благородное чувство. Он ни в чем не оправдывался, ни в чем не раскаивался, никого не обвинял и никого не назвал; его исхудалое лицо с потухшими глазами сохраняло одно выражение: покорности судьбе и твердости; а его короткие, но прямые и правдивые ответы возбуждали в самих его судьях чувство, похожее на сострадание. Даже крестьяне, которые его схватили и свидетельствовали против него, даже они разделяли это чувство и говорили о нем, как о барине "простом" и добром. Но вина его была слишком явна; избегнуть наказания он не мог и, казалось, сам принял это наказание как должное. Из остальных его, впрочем немногочисленных, соучастников - Машурина скрылась; Остродумов был убит одним мещанином, которого он подговаривал к восстанию и который "неловко" толкнул его; Голушкина, за его "чистосердечное раскаяние" (он чуть с ума не сошел от ужаса и тоски), подвергли легкому наказанию; Кислякова продержали с месяц под арестом, а потом выпустили и даже не препятствовали ему снова "скакать" по губерниям; Нежданова избавила смерть; Соломина, за недостатком улик, оставили в некотором подозрении - и в покое. (Он, впрочем, не уклонился от суда и явился в срок.) О Марианне не было и речи... Паклин окончательно вывернулся; да на него и не обратили особенного внимания.. Прошло года полтора. Настала зима 1870 года. В Петербурге, в том самом Петербурге, где тайный советник в камергер Сипягин готовился играть значительную роль, где его жена покровительствовала всем искусствам, давала музыкальные вечера и устраивала дешевые кухни, а г.Калломейцев считался одним из надежнейших чиновников своего министерства, - по одной из линий Васильевского острова шел, ковыляя и слегка переваливаясь, маленький человек в скромном пальто с кошачьим воротником. То был Паклин. Он порядком изменился в последнее время: в концах висков, выдававшихся из-под краев меховой шапки, виднелось несколько серебряных нитей. Навстречу ему двигалась по тротуару дама довольно полная, высокого роста, плотно закутанная в темный суконный плащ. Паклин бросил на нее рассеянный взгляд, прошел мимо... потом вдруг остановился, задумался, расставил руки и, с живостью обернувшись и нагнав ее, взглянул ей под шляпку в лицо. - Машурина? - промолвил он вполголоса. Дама величественно измерила его взором и, не сказав слова, пошла дальше. - Милая Машурина, я вас узнал, - продолжал Паклин, ковыляя с нею рядом, - только вы, пожалуйста, не бойтесь. Ведь я вас не выдам - я слишком рад, что встретил вас! Я Паклин, Сила Паклин, знаете, приятель Нежданова ... Зайдите ко мне; я живу в двух шагах отсюда... Пожалуйста. - Ио соно контесса Рокко ди Санто-Фиуме! - отвечала дама низким голосом, но с удивительно чистым русским акцентом. - Ну что контесса....какая там контесса... Зайдите, поболтаемте. - Да где вы живете? - спросила вдруг по-русски итальянская графиня. - Мне некогда. - Я живу здесь, в этой линии, вот мой дом, тот серый, трехэтажный. Какая вы добрая, что не хотите больше секретничать со мною! Дайте мне руку, пойдемте. Давно ли вы здесь? И почему вы графиня? Вышли замуж за какого-нибудь итальянского конте? Машурина ни за какого конте не выходила; ее снабдили паспортом, выданным на имя некоей графини Рокко ди Санто-Фиуме, недавно перед тем умершей, - и она с ним преспокойно отправилась в Россию, хотя ни слова не понимала по-итальянски и имела лицо самое русское. Паклин привел ее в свою скромную квартиру. Горбатая сестра, с которой он жил, вышла навстречу гостье из-за перегородки, отделявшей крохотную кухню от такой же передней. - Вот, Снапочка, - промолвил он, - рекомендую, большая моя приятельница; дай-ка нам поскорее чаю. Машурина, которая не пошла бы к Паклину, если б он не упомянул имени Нежданова, сняла шляпу с головы - и, поправивши своей мужественной рукой свои по-прежнему коротко остриженные волосы, поклонилась и села молча. Она так вовсе не изменилась; даже платье на ней было то же самое, как и два года тому назад, но в глазах ее установилась какая-то недвижная печаль, которая придавала нечто трогательное обычно суровому выражению ее лица. Снандулия побежала за самоваром, а Паклин поместился против Машуриной, слегка похлопал ее по колену и понурил голову; а когда хотел заговорить, принужден был откашляться: голос его прервался, и слезинки сверкнули на глазах. Машурина сидела неподвижно и прямо, не прислоняясь к спинке стула, и угрюмо смотрела в сторону. - Да, да, - начал Паклин, - были дела! Гляжу на вас и вспоминаю... многое и многих. Мертвых и живых. Вот и мои переклитки умерли... да вы их, кажется, не знали; и обе, как я предсказывал, в один день. Нежданов... бедный Нежданов!.. Вы ведь, вероятно, знаете... - Да, знаю, - промолвила Машурина, все так же глядя в сторону. - И об Остродумове тоже знаете? Машурина только кивнула головою. Ей хотелось, чтобы он продолжал говорить о Нежданове, но она не решилась просить его об этом. Он ее понял и так. - Я слышал, что он в своем предсмертном письме упомянул о вас. Правда это? Машурина не тотчас отвечала. - Правда, - произнесла она наконец. - Чудесный был человек! Только не в свою колею попал! Он такой же был революционер, как и я! Знаете, кто он, собственно, был? Романтик реализма! Понимаете ли вы меня? Машурина бросила быстрый взгляд на Паклина. Она его не поняла - да и не хотела дать себе труд его понять. Ей показалось неуместным и странным, что он осмеливается приравнивать себя к Нежданову, но она подумала: "Пускай хвастается теперь". (Хоть он вовсе не хвастался - а скорей, по его понятиям, принижал себя.) - Меня тут отыскал некто Силин, - продолжал Паклин, - Нежданов тоже писал к нему перед смертью. Так вот он, этот самый Силин, просил: нельзя ли найти какие-нибудь бумаги покойного? Но Алешины вещи были опечатаны... да и бумаг там не было; он все сжег - и стихи свои сжег. Вы, может быть, не знали, что он стихи писал? Мне их жаль; я уверен - иные должны были быть очень недурны. Все это исчезло вместе с ним - все попало в общий круговорот - и замерло навеки! Только что у друзей осталось воспоминание, пока они сами не исчезнут в свою очередь! Паклин помолчал. - Зато Сипягины, - подхватил он снова, - помиите, эти снисходительные, важные, отвратительные тузы - они теперь наверху могущества и славы! - Машурина вовсе не "помнила" Сипягиных; но Паклин так их ненавидел обоих - особенно его, - что не мог отказать себе в удовольствии их "продернуть". - Говорят, у них в доме такой высокий тон! Все о добродетели толкуют!! Только я заметил: если где слишком много толкуют о добродетели - это все равно, как если в комнате у больного слишком накурено благовониями: наверно, пред этим совершилась какая-нибудь тайная пакость! Подозрительно это! Бедного Алексея они погубили, эти Сипягины! - Что Соломин? - спросила Машурина. Ей вдруг перестало хотеться слышать что-нибудь от этого о нем! - СоломИн! - воскликнул Павлин. - Этот молодцом Вывернулся отлично. Прежнюю-то фабрику бросил и лучших людей с собой увел. Там был один... голова, говорят, бедовая! Павлом его звали... так и того увел. Теперь, говорят, свой завод имеет - небольшой - где-то там, в Перми, на каких-то артельных началах. Этот дела своего не оставит! Он продолбит! Клюв у него тонкий - да и крепкий зато. Он - молодец! А главное: он не внезапный исцелитель общественных ран. Потому ведь мы, русские, какой народ? Мы все ждем: вот, мол, придет что-нибудь или кто-нибудь - и разом нас излечит, все наши раны заживит, выдернет все наши недуги, как больной зуб. Кто будет этот чародей? Дарвинизм? Деревня? Архип Перепентьев? Заграничная война? Что угодно! только, батюшка, рви зуб!! Это все - леность, вялость, недомыслие. А Соломин не такой: нет, он зубов не дергает - он молодец! Машурина сделала знак рукою, как бы желая сказать, что "этого, стало быть, похерить надо". - Ну, а та девушка, - спросила она, - я забыла ее имя, которая тогда с ним - с Неждановым - ушла? - Марианна? Да она теперь этого самого Соломина жена. Уж больше года, как она за ним замужем. Сперва только числилась, а теперь, говорят, настоящей женой стала. Да-а. Машурина опять сделала тот же знак рукою. Бывало, она ревновала Нежданова к Марианне; а теперь она негодовала на нее за то, что как могла она изменить его памяти?! - Чай, ребенок уже есть, - прибавила она с пренебрежением. - Может быть, не знаю. Но куда же вы, куда? - прибавил Паклин, видя, что она берется за шляпу. - Подождите; Снапочка нам сейчас чаю подаст. Ему не столько хотелось удержать собственно Машурину, сколько не упустить случая высказать все, что накопилось и накипело у него на душе. С тех пор, как Паклин вернулся в Петербург, он видел очень мало людей, особенно молодых. История с Неждановым его напугала, он стал очень осторожен и чуждался общества, - и молодые люди, с своей стороны, поглядывали на него подозрительно. Один так даже прямо в глаза обругал его доносчиком. С стариками он сам неохотно сближался; вот ему и приходилось иногда молчать по неделям. Перед сестрой он не высказывался; не потому, чтобы воображал ее не способной его понять, - о нет! Он высоко ценил ее ум... Но с ней надо было говорить серьезно и вполне правдиво: а как только он пускался "козырять" или "запускать брандер" - она тотчас принималась глядеть на него каким-то особенным, внимательным и соболезнующим взглядом, и ему становилось совестно. Но скажите, возможно ли обойтись без легкой "козырки"? Хоть с двойки - да козыряй! Оттого-то и жизнь в Петербурге начала становиться тошна Паклину, и он уже думал, как бы перебраться в Москву, что ли? Разные соображения, измышления, выдумки, смешные или злые слова набирались в нем, как вода на запертой мельнице... Заставок нельзя было поднимать: вода делалась стоячей и портилась. Машурина подвернулась... Вот он и поднял заставки и заговорил, заговорил... Досталось же Петербургу, петербургской жизни, всей России! Никому и ничему не было ни малейшей пощады! Машурину все это занимало весьма умеренно; но она не возражала и не перебивала его... а ему больше ничего не требовалось. - Да-с, - говорил он, - веселое наступило времечко, доложу вам! В обществе застой совершенный; все скучают адски! В литературе пустота - хоть шаром покати! В критике... если молодому передовому рецензенту нужно сказать, что "курице свойственно нести яйца", - подавай ему целых двадцать страниц для изложения этой великой истины - да и то он едва с нею сладит! Пухлы эти господа, доложу вам, как пуховики, размазисты, как тюря, и с пеной у рта говорят общие места! В науке... ха-ха-ха! ученый Кант есть и у нас; только на воротниках инженеров! В искусстве то же самое! Не угодно ли вам сегодня пойти в концерт? Услышите народного певца Агремантского... Большим успехом пользуется... А если бы лещ с кашей - лещ с кашей, говорю вам, был одарен голосом, то он именно так бы и пел, как этот господин! И тот же Скоропихин, знаете, наш исконный Аристарх, его хвалит! Это, мол, не то, что западное искусство! Он же и наших паскудных живописцев хвалит! Я, мол, прежде сам приходил в восторг от Европы, от итальянцев; а услышал Россини и подумал "Э! э!"; увидел Рафаэля - "Э! э!.." - и этого Э! э! нашим молодым людям совершенно; достаточно; и они за Скоропихиным повторяют: "Э! э!" - и довольны, представьте! А в то же время народ бедствуст страшно, подати его разорили вконец, и только та и совершилась реформа, что все мужики картузы надели, а бабы бросили кички... А голод! А пьянство! А кулаки! Но тут Машурина зевнула - и Павлин понял, что надо переменить разговор. - Вы мне еще не сказали, - обратился он к ней где вы эти два года были, и давно ли приехали, и что делали, и каким образом превратились в итальянку и почему ... - Вам все это не следует знать, - перебила Машурина, - к чему? Ведь уж это теперь не по вашей части. Паклина как будто что-то кольнуло, и он, чтоб скрыть свое смущение, посмеялся коротеньким, натянутым смехом. - Ну как угодно, - промолвил он, - я знаю, я в глазах нынешнего поколения человек отсталый; да и точно, я уже не могу считаться... в тех рядах... - Он не закончил своей фразы. - Вот нам Снапочка чай несет... Вы выкушайте чашечку да послушайте меня... Может быть, в моих словах будет что-нибудь интересное для вас. Машурина взяла чашку, кусочек сахару и принялась пить вприкуску. Паклин рассмеялся уже начисто. - Хорошо, что полиции здесь нет, а то итальянская графиня... как, бишь? - Рокко ди Санто-Фиуме, - с невозмутимой важностью проговорила Машурина, втягивая в себя горячую струю. - Рокко ди Санто-Фиуме, - повторил Паклин, - и пьет вприкуску чай! Уж очень неправдоподобно! Полиция сейчас возымела бы подозрения. - Ко мне и то на границе, - заметила Машурина, - приставал какой-то в мундире; все расспрашивал; я уж и не вытерпела: "Отвяжись ты от меня, говорю, ради бога!" - Вы это по-итальянски ему сказали? - Нет, по-русски. - И что же он? - Что? Известно, отошел! - Браво! - воскликнул Паклин. - Ай да контесса! Еще чашечку! Ну так вот что я хотел вам сказать. Вы вот о Соломине отозвались сухо. А знаете ли, что я вам доложу? Такие, как он - они-то вот и суть настоящие. Их сразу не раскусить, а они - настоящие, поверьте; и будущее им принадлежит. Это - не герои; это даже не те "герои труда", о которых какой-то чудак - американец или англичанин - написал книгу для назидания нас, убогих; это - крепкие, серые, одноцветные, народные люди. Теперь только таких и нужно! Вы смотрите на Соломина: умен - как день, и здоров - как рыба... Как же не чудно! Ведь у нас до сих пор на Руси как было: коли ты живой человек, с чувством, с сознанием - так непременно ты больной! А у Соломина сердце-то, пожалуй, тем же болеет, чем и наше, - и ненавидит он то же, что мы ненавидим, да нервы у него молчат и все тело повинуется как следует... значит: молодец! Помилуйте: человек с идеалом - и без фразы; образованный - и из народа; простой - и себе на уме... Какого вам еще надо? - И вы не глядите на то, - продолжал Паклин, приходя все более и более в азарт и не замечая, что Машурина его уже давно не слушала и опять уставилась куда-то в сторону, - не глядите на то, что у нас теперь на Руси всякий водится народ: и славянофилы, и чиновники, и простые, и махровые генералы, и эпикурейцы, и подражатели, и чудаки (знавал же я одну барыню, Хавронью Прыщову по имени, которая вдруг с бухта-барахта сделалась легитимисткой и уверяла всех, что когда она умрет, то стоит только вскрыть ее тело - и на сердце ее найдут начертанным имя Генриха Пятого... Это у Хавроньи Прыщовой-то!). Не глядите на все это, моя почтеннейшая, а знайте, что настоящая, исконная наша дорога - там, где Соломины, серые, простые, хитрые Соломины! Вспомните, кагда я это говорю вам, - зимой тысяча восемьсот семидесятого года, когда Германия собирается уничтожить Францию... когда... - Силушка, - послышался за спиной Паклина тихий голосок Снандулии, - мне кажется, в твоих рассуждениях о будущем ты забываешь нашу религию и ее влияние... И к тому же, - поспешно прибавила она, - госпожа Машурина тебя не слушает... Ты бы лучше предложил ей еще чашку чаю. Паклин спохватился. - Ах да, моя почтенная, - не хотите ли вы в самом деле?.. Но Машурина медленно перевела на него свои темные глаза и задумчиво промолвила: - Я хотела спросить у вас, Паклин, нет ли у вас какой-нибудь записки Нежданова - или его фотографии? - Есть фотография... есть; и, кажется, довольно хорошая. В столе. Я сейчас отыщу вам ее. Он стал рыться у себя в ящике, а Снандулия подошла к Машуриной и с участием, долго и пристально посмотрев на нее, пожала ей руку - как собрату. - Вот она! Нашел! - воскликнул Паклин и подал фотографию. Машурина быстро, почти не взглянув на нее и не сказав спасибо, но покрасневши вся, сунула ее в карман, надела шляпу и направилась к двери. - Вы уходите? - промолвил Паклин. - Где вы живете, по крайней мере? - А где придется. - Понимаю; вы не хотите, чтоб я об этом знал. Ну, скажите, пожалуйста, хоть одно: вы все по приказанию Василия Николаевича действуете? - На что вам знать? - Или, может, кого другого, - Сидора Сидорыча? Машурина не отвечала. - Или вами распоряжается безымянный какой? Машурина уже перешагнула порог. - А может быть, и безымянный! Она захлопнула дверь. Паклин долго стоял неподвижно перед этой закрытой дверью. - "Безымянная Русь!" - сказал он наконец. |
| Иван Тургенев.ру © 2009, Использование материалов возможно только с установкой ссылки на сайт |